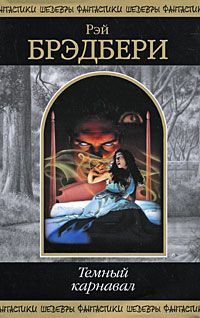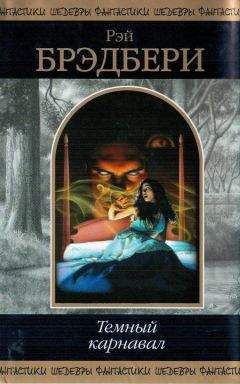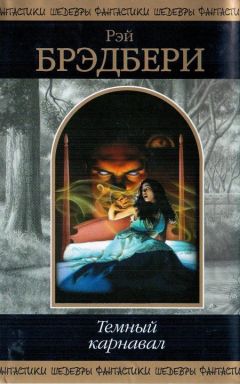Рэй Брэдбери - Темный карнавал (сборник)
Мари лежала, придирчиво прислушиваясь к биению сердца.
Глухой удар – еще глухой удар – и еще один. Пауза. Глухой удар – еще глухой удар – и еще. Пауза.
Что, если сердце остановится прямо сейчас?
Вот!
В груди у нее – тишина.
– Джозеф!
Мари вскочила. Схватилась за грудь – стиснуть, сдавить, снова заставить работать умолкшее сердце!
Сердце раскрылось внутри, затворилось, загрохотало и сделало двадцать нервных, стремительных ударов, похожих на выстрелы!
Мари упала на постель. Что, если сердце снова остановится и больше уже не забьется? Что тогда? Что предпринять? Она умрет от испуга, вот и все. Не смешно ли? Умереть от страха, услышав, что сердце остановилось. Глупости. Она должна прислушиваться к его биению, не давать ему замереть. Ведь надо вернуться домой, повидаться с Лайлой, накупить книг, снова потанцевать, погулять в Центральном парке и… надо прислушаться…
Глухой удар – еще глухой удар – и еще один. Тишина.
Джозеф постучал в дверь. Джозеф постучал в дверь, а машина не была отремонтирована, и предстояла еще одна ночь. Джозеф так и не побрился, и каждый волосок у него на подбородке красовался по отдельности – один совершеннее другого, а лавочки, где продаются журналы, были закрыты, и журналов там больше не осталось, и они поужинали (так, отщипнула кусочек), и Джозеф вышел вечером прогуляться по городу.
Мари снова сидела в кресле – и волосы у нее на затылке медленно вздымались, словно по ним проводили магнитом. Мари чувствовала себя очень слабой – не могла шевельнуться и встать, тела она лишилась: вся она состояла из биения сердца и чудовищной пульсации тепла и боли, заключенной в четырех стенах. Пылающие веки ее набрякли, словно вынашивали плод, – за ними пряталось дитя ужаса.
Глубоко внутри себя Мари ощутила, как один из крохотных зубцов соскочил с резьбы. А впереди еще ночь, подумалось ей, и еще одна, и еще. И каждая продлится дольше вчерашней. Соскочил с резьбы первый зубец, маятник впервые пропустил удар. Но за первым зубцом последует и второй, и третий – все они взаимосвязаны. Зубцы сплетены между собой: маленький с другим – чуть побольше; этот, который чуть побольше, – с большим, большой – с огромным, огромный – с таким, что еще огромней; тот, что еще огромней, – с громадным, громадный – с колоссальным, колоссальный – с необъятным…
Алая жилка – не толще красной нити, натянулась и затрепетала, нерв – тоньше волокна в красной льняной ткани – задрожал, извиваясь. Глубоко внутри у нее застопорилась крохотная деталь механизма – и вся машина, разладившись, была готова вот-вот неминуемо развалиться на части.
Мари поломке не противилась. Согласилась, что ее сотрясает ужас, что на лбу проступают крупные капли пота, что позвоночник сверху донизу пронизывает боль, что рот наполняется отвратным вином. Она чувствовала себя испорченным гирокомпасом, стрелка которого металась то в одну сторону, то в другую, путалась, дрожала и жалобно хныкала. Краска схлынула с ее лица, как потухает свет в выключенной электрической лампочке, а на стеклянных щеках погасшего резервуара проступают обесцвеченные нити и волоски накала…
Джозеф был здесь, в номере, он давно уже вошел, но как – Мари даже не слышала. Он был здесь, в номере, но разницы никакой это не внесло, его приход ничего не изменил. Джозеф готовился ко сну и расхаживал по номеру, не говоря ни слова, и Мари тоже не говорила ни слова, а только рухнула в постель, пока он перемещался в наполненном табачным дымом пространстве и однажды заговорил с ней, но она его не услышала.
Мари следила за временем. Каждые пять минут взглядывала на часы, часы содрогались, и содрогалось время, а пять пальцев превращались в пятнадцать – колыхаясь и вновь преобразуясь в пять. Дрожь не утихала. Мари попросила воды. Она не находила себе места в постели. За окном дул ветер, скособочивая фонари и расплескивая брызги иллюминации; они исподтишка наносили зданиям боковые удары – и тогда окна загорались, будто широко распахнутые глаза, которые тут же закрывались, если свет устремлялся в другом направлении. На нижнем этаже гостиницы после ужина стояла тишина, в их безмолвный номер не проникали никакие звуки.
Джозеф подал Мари стакан воды.
– У меня бледное лицо, Джозеф, – сказала Мари, зарывшись в складки одеяла.
– Нормальное, – ответил он.
– Нет, не нормальное. Я плохо себя чувствую. И мне страшно.
– Бояться нечего.
– Я хочу поехать в Штаты поездом.
– Поезд идет из Леона, а здесь железной дороги нет, – ответил Джозеф, закуривая очередную сигарету.
– Давай поедем туда на машине.
– Возьмем здесь такси со здешним водителем, а свою машину бросим?
– Да. Я хочу уехать.
– Утром ты совсем поправишься.
– Нет. Нет, не поправлюсь.
– Поправишься.
– Я знаю, что не поправлюсь. Я плохо себя чувствую.
– Переправка нашей машины обойдется не в одну сотню долларов, – заметил Джозеф.
– Не важно. У меня на счету лежит двести долларов. Я заплачу. Пожалуйста, давай поедем домой.
– Завтра выглянет солнышко – и тебе станет лучше. Это у тебя все оттого, что стемнело.
– Да, солнце зашло и ветер сильный, – прошептала Мари, закрывая глаза, повернув голову и прислушиваясь. – О, какой одинокий ветер. Мексика – непонятная страна. Сплошь то заросли, то пустыня или безлюдные пустыри. Там и сям небольшой городок, вроде этого, с редкими фонарями, которые можно погасить одним щелчком пальцев…
– Мексика – довольно большая страна, – возразил Джозеф.
– Разве здешним жителям не бывает одиноко?
– Они привыкли к такой жизни.
– Выходит, страха они не испытывают?
– У них есть вера.
– Как жаль, что у меня ее нет.
– Если ты примешь веру, то перестанешь думать, – сказал Джозеф. – Стоит слишком глубоко во что-то поверить, и места для свежих идей уже не останется.
– Сейчас, – еле слышно проговорила Мари, – мне больше всего именно этого и хотелось бы. Не надо мне места ни для каких свежих идей, хорошо бы просто перестать думать – и поверить во что-нибудь настолько сильно, чтобы некогда было бояться.
– А ты разве чего-то боишься?
– Если бы у меня была вера, – продолжала Мари, не слушая Джозефа, – у меня был бы рычаг, чтобы себя приподнять. Но сейчас у меня рычага нет – и я не знаю, как себя приподнять.
– О господи… – промычал Джозеф, усаживаясь на стул.
– Когда-то я была верующей.
– Баптисткой?
– Нет, тогда мне было лет двенадцать. Но это в прошлом. Хочу сказать о том, что было дальше.
– Ты мне никогда об этом не рассказывала.
– Ты должен был бы знать.
– Что еще за вера? Гипсовые статуи святых в ризнице? Или какой-нибудь особый святой, перед которым надо читать молитвы по четкам?

![Рэй Брэдбери - Тёмный карнавал [переиздание]](/uploads/posts/books/121260/121260.jpg)