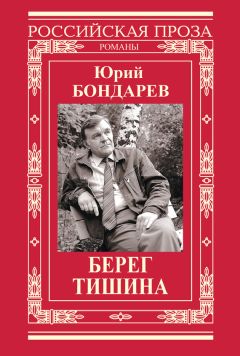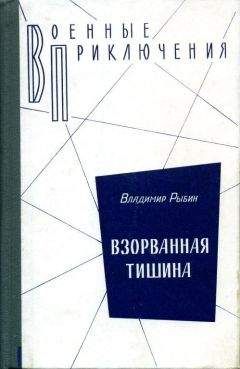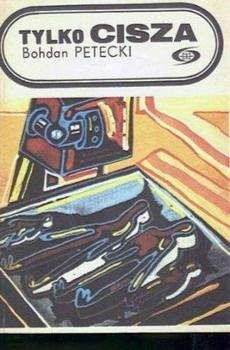Николай Ларионов - Тишина
Большевики не сдавались.
--------------
XV.
"А ты в нас стрелять будешь?"
Быстров бредил вторые сутки. Лежа на шинели, головою к дверям камеры, он бессознательно обшаривал липкие стены скрюченными пальцами.
Рядом сидел Лапицкий, заросший бородой, черный, с кружкой воды в руках.
- Погоди, Коля... Коля!.. Ф-фу ты, чорт! Ведь нельзя же так. Ты выпьешь всю сразу. Здесь есть еще товарищи... Глотни!.. Вот... Довольно.
- Жжет... жжет, - стонал Быстров, цепляясь за стену, - вот тут.
Он схватился за горло и разорвал на груди рубашку.
В камере было душно. На сыром захарканном полу спало вповалку несколько человек. Сверху, через квадрат оконца падал скупой вечерний свет.
- Нам ничего не дают двое суток, даже воды, - тихо говорил Лапицкий, будто самому себе. - Крутоярова и Краузе с нами нет... Это хорошо. О них будут вспоминать, обнажая головы, как о борцах. А мы...
Он выпрямился и хрустнул пальцами.
- А тебя опрокинут головой в нужник, будут сечь плетьми и ты не пикнешь, потому что... Не надо было сдаваться, или не надо было начинать.
За дверью камеры тяжелым гулом отдали шаги. Чей-то сиплый голос сказал "отворяй" и замок охнул протяжно.
Вошел человек в матроске. В одной руке он держал фонарь, в другой лист бумаги. Заслоняя ладонью свет, человек оглядел камеру и рассмеялся.
- Спите?.. Ну и спите... покуда.
Повернул фонарь на Лапицкого, вздрогнул.
- Ты кто?
Тот встал, заслоняя собой Быстрова.
- Так скоро?
Вошедший поставил фонарь на пол, подошел к Лапицкому вплотную.
- Сволочь, молчи! Ты кто, я спрашиваю?
Зажав фонарь подмышками, заскреб по бумаге пальцем и запыхтел.
- Быстров ты будешь?
Лапицкий с минуту медлил.
- Да... Я.
Человек в матроске снова залился икающим смехом.
- Плохо... Ха-ха!.. Братишка, а?
И топнув ногой, так, что свеча в фонаре потухла, неожиданно завизжал:
- Скидавай! Все скидавай, распро!.. Об... городок, каиново племя? Скажи, сука чортова, сколько уворовал? Эх ты... мразь партейная!
Лежавшие на полу, заворочались. Быстров громко вздохнул, заметался:
- ... Белевич... дивизия... идет...
- А это кто?
Лапицкий запахнул на груди кожух.
- Не знаю. Вы согнали нас, как табун.
- Хм! Одного поля... Скрываешь? Все равно - к утру амба. Каюк, товарищи, а? Ха-ха-ха!.. - И, обернувшись к двери, крикнул:
- Заходи!
Вошли трое, задышав спиртным перегаром. Один низковатый, саженноплечий, с облупленным носом, подойдя к лежавшим на полу, пихнул ногой, сказал мрачно:
- Сапоги! Одежду!
Второй солдат, стаскивая с себя рванье, икнул.
- В роде, как амундирование на армию... Комиссар, гони штаны, что хмуришься!
Широко расставляя руки, как бы заслоняя Быстрова, Лапицкий медленно стал раздеваться.
--------------
Оконце вверху залепило синим пластырем ночи. Духота распирала камеру. Кислый, муторный запах от спящих, от слизи на стенах стоял в недвижном воздухе.
Лапицкий спал сидя, прислонясь к стене, когда был разбужен толчком. Человек в матроске светил фонарем прямо в глаза.
- Собирайсь! - отрывисто бросил он и, обернувшись к спящим, оглушительно заорал: - Вставай!
Лапицкий поднялся, расправляя члены. Он улыбался.
- Товарищи, не бойтесь! Вместе ведь?.. А этого, - он указал на Быстрова, - не троньте.. Сам кончается.
Голос его дрогнул.
- Вы хлюсты живучи, - усмехнулся человек в матроске, - небойсь, дойдет. Эй, барин советский, - заорал он снова, схватив Быстрова за шиворот, - ха-ха-ха!.
Быстров не двигался. Лапицкий отдернул руку и, приблизив лицо к лицу, сказал в упор:
- Не трогать его. Понял, мерзавец?
Человек в матроске слегка отшатнулся, раскрыв широко рот и, поставив фонарь на пол, крякнул.
- Кхм!. Хм!. Ха-ха-ха!. Ты тово.. Видал?
Не спуская глаз с Лапицкого, вытянул из кабуры браунинг.
- Ты, ежели хотишь вместе, - молчок. Айда!
Арестованные под конвоем прошли станцию. Дул холодный западный ветер. Невдалеке у пакгаузов грузили эшелон, тихо посвистывал одинокий паровоз. Мелкий, шелестящий дождь падал с неба.
Солдаты ушли, загнав арестованных в теплушку. Остался один, обмотанный башлыком, в рыжей папахе.
Приставив к вагону винтовку, часовой свернул цыгарку и подтолкнул Лапицкого в спину:
- Ну?
- Я не пойду в вагон. Расстреливайте здесь, около. Мы не стадо.
- Н-да!. - вздохнул часовой и замолчал, покручивая ус.
А тот помер?
Лапицкий громко глотнул воздух.
- Помер.. - и, став на шпалы, втянул голову в плечи.
Часовой забарабанил по сапогу шашкой.
- Э-эх, товарищи, товарищи!. Что за кутья у вас деется - не разбери поймешь, ей-пра! Дело такое, что истинную вещь не угадаешь: вы на нас, а мы на вас, а оба все - мужики. Так, что-ль?
Лапицкий быстро заглянул ему в глаза.
- Ты почему говоришь со мной? Ты не хитри, товарищ, не к чему.
- Не бойсь, - махнул тот рукой, - по нутру ежели сказать, то и нам тоже не пирог выходит. В роде и енструкция есть нащет вообще нового устройства, а только дерьма много у нас, так сказать, пьянствие и тоже... в карман...
Лапицкий вдруг резко схватил часового за руку и, оглянувшись, заговорил тихо и горячо:
- Слушай, товарищ! Вы обмануты. Вот в этой клетке, - он указал на вагон, - горсточка борцов за народ. Они знают, что с рассветом - конец, а может, и раньше. (Лапицкий захлебнулся словом, перевел дух.) - Мы везде, мы из недр. Мы зубами вырвем Россию из омута, весь мир!
Из ста мы теряем девяносто, но идут новые сотни... Слушай! Он остановился, с минуту смотрел на гигантскую тень от фонаря.
- Ты знаешь о коммуне?
... И в пахнувшей прелью тишине странной музыкой звучали его слова о свободе, о далеких смертях, подвигах, о жизни, что смело, широко вошла в сталь, гранит...
- ... Не сегодня, так завтра вы поймете, станете, как мы. Через кровь, через железо идет новая жизнь. Ну, прощай, товарищ!
Обнял голову солдата, нагнулся, поцеловал в мокрые усы, вскочил в вагон.
- А ты будешь стрелять в нас?
И с грохотом задвинул дверь.
--------------
Серый дождевой рассвет. Мутный оскал теплушки, - двери настежь, свисает, болтаясь под ветром, обшарканный рукав забытой шинели. У пакгаузов, где ночью грузили эшелон - десять трупов. К фонарному столбу подвешен голый человек.
Только по жилистым, вздувшимся рукам и папахе, надвинутой по-шею, можно было признать часового, охранявшего теплушку.
--------------
XVI.
Последняя, о корме.
- В Люблинке собрали, - докладывает начальник продотряда, - в Тырхове собрали с гулькин нос, а в Жеребьеве мужики прямо говорят: дадим, мол, народной армии генерала Копытовского, а вам - когда на вербе груши вырастут. И вообще, товарищ Гантман, я ничего не беру в толк. От тишины от этой жуть прохватывает, как угодно. Ну, стань на дыбы, бей, сукин сын, нет! Он-те-сволочной ухмылкой оскалится и спину повернет.