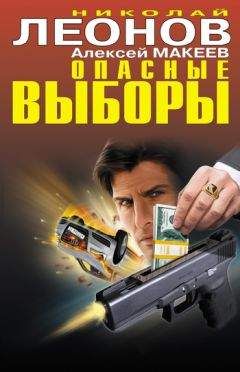Вионор Меретуков - Тринадцатая пуля
— Почему украла? — обиделась она. — Подарил один очень симпатичный грузин…
— Всё, это конец, — сказал я, взяв в руки золотистые головки, — осталось сделать один шаг — съесть сырую луковицу — и превратиться в Буратино.
— Я жаждала приключений, — уныло произнесла поскучневшая Слава, — и где они? То, что здесь происходит, это не приключение, это даже не происшествие, это — катастрофа!.. — она тяжело вздохнула.
Мои попытки найти Болтянского ни к чему не привели. Молчит квартира, молчит дача…
Такое впечатление, что Москва вымерла. Делать нам здесь нечего. Но…
— Без картин я не уеду, — объясняю я Славе.
Она располнела, хотя питается только макаронами и консервами.
— Как твоя гражданская жена я готова ждать, сколько угодно, — сказала она, озабоченно вертясь перед зеркалом, — но здешняя кухня меня доконает. Неужели вы в России всегда так питались?
— Чем тебе не нравятся макароны?
— Они мне нравятся. Но их слишком много. И они мне уже снятся!.. Андрюша, я не уговариваю тебя, но нам надо уезжать. И как можно скорее!
— Ты гражданка Франции, ты можешь ехать. А меня, боюсь, не выпустят…
— Господи, что же нам делать?
— Я что-нибудь придумаю…
— Может, нам пожениться?
— ???
— Тогда тебя, как мужа француженки, точно выпустят! И потом, я еще ни разу не была замужем.
— Не уверен…
— Ты не веришь?!
— Не уверен, что выпустят… А жениться? Что ж, я готов, но с одним условием…
— Знаю. Ты потребуешь невозможного… Ты потребуешь, чтобы я была тебе верна…
— Не помешало бы… Но условие — в другом. Мы обвенчаемся в Париже…
— Но я католичка!..
— Согласен перейти в католическую веру. Тем более что я — вне вероисповедания…
— Какая жертва! — Слава повисла у меня на шее. Зачем я ей нужен?..
Я опять стал плохо спать. Лежа с открытыми глазами и вслушиваясь в шорохи старого дома, я часто рисую в воображении далекий город в синей дымке, широкую реку с самыми красивыми в мире мостами, вспоминаю юного любителя чтения на балконе в доме напротив и веселую толпу на набережной…
Ах, Париж, Париж с его неповторимыми улицами, его волнующим волшебным воздухом, Париж, город грез, город, который завораживает, сулит и обещает…
Почему я не уехал туда, когда был молод? Боюсь, мне уже никогда не увидеть Эйфелевой башни… Ну, что ж, спасибо и на том, что Париж был в моей жизни…
Мне жалко самого себя, мне жалко немолодого человека, в которого я превратился с годами. Этого немолодого человека жалеет мальчишка, который сидит внутри меня… В мои годы сентиментальность опасна, и, в конце концов, намучившись, я сердито засыпаю…
…В пять утра выстрелил маузер. Говорят, раз в году и палка стреляет. Что-то произошло в металлических внутренностях дореволюционной единицы огнестрельного оружия.
Может, проржавела пружинка спускового механизма, может, окислился от времени капсюль, может, еще что-то… Но пистолет самопроизвольно произвел выстрел.
От страшного грохота я чуть не лишился разума, с испуганным воплем подлетев на кровати под самый потолок. Мое сердце вмиг покинуло свое законное место над вторым левым ребром и затерялось в области гортани.
Сначала я подумал, что это ночные забавы Лаврентия Берии.
Когда мое сердце благополучно вернулось на место, я встал с постели и только тогда заметил, что Слава даже не проснулась. Да, с такими задатками, живи она полвека назад, можно было бы смело вступать в Иностранный легион! Там бы она не затерялась.
Я встал, накинул халат и прошел в кабинет. Зажег свет. Сильно пахло порохом.
Я подошел к книжному шкафу. Увидел лежащий на полке пистолет. Его дуло было направлено на меня. Из суеверного страха я сделал шаг в сторону.
Маузер выстрелил раз, почему бы ему ни выстрелить еще?.. Я прикинул на взгляд примерную траекторию полета пули и нашел входное отверстие.
Напротив шкафа, на стене, висела в рамочке под стеклом (теперь разбитом) групповая фотография студентов Академии художеств 1974 года выпуска.
Я нашел себя, вернее, то место, где до выстрела на фотографии среди друзей и приятелей помещался молодой подающий надежды художник Андрей Сухов, и увидел пулю, пробившую фотографическую бумагу и застрявшую в штукатурке… Я ножом для разрезания бумаги извлек пулю из стены и положил ее на ладонь. Пуля была теплая…
Я взял пистолет в руки. Разобрать его было делом минуты: когда-то у отца был такой же, и я знал, как это делается. Еще минута ушла на сборку. В обойме оставалось еще… я пересчитал — тринадцать патронов. Двенадцать я вложил назад, в обойму, а один опустил в карман халата…
…Как я ни боюсь выходить на улицу, но в один прекрасный вечер я все-таки, прихватив зонт, выбираюсь из дому. К сопровождающим, которые, как тени следуют за мной, я отношусь без страха. Возможно даже, с некоторым уважением. Работа у них такая…
Во дворе грязь и разор. Где-то за городом бушевала гроза: об этом говорили сполохи на темно-сером, будто непромытом, небе и слабые, но угрожающие раскаты грома.
Лицом к стене, опустив голову, в позе пьяницы, украдкой пересчитывающего мелочь, стоял неизвестный гражданин и справлял малую нужду.
Я вышел на Арбат, потом по Кольцу направился в сторону площади Восстания.
Порывистый ветер гнал по грязным улицам клочки газет, песчаную пыль, тряпки белого, синего и красного цвета.
Тревога, тревога, тревога была разлита в городском пространстве. Тревога была везде и во всем: и в пахнущем сырым подвалом воздухе огромного города, и в желтом свете уличных фонарей. Этот мертвенный свет рождал рыскающие по тротуарам и мостовым тупорылые тени, похожие на дрожащие от страха привидения.
У гастронома, в витрины которого были вставлены фанерные щиты, стоял парень и под гитару пьяным голосом тянул незнакомую песню.
Струи дождя непрестанно играют
На крышах домов и на тоненьких вербах,
И в вышине, на миг замирая,
Носятся тучи под бешеным небом.
Черный асфальт, как безумное небо,
Тучи, как лужи, несутся беспечно.
Все, что есть в мире — безумнее бреда,
Все, что есть в людях, как мир, бесконечно.
Вот она, поэзия двадцать первого века, подумал я.
Меня обогнал странно одетый человек с седой бородой. Он был в длинном грязном пальто и домашних тапочках с меховой оторочкой.
На голове ненормального бородача строго горизонтально помещалась военная фуражка, по околышу которой белой краской была выведена надпись — "Подземный космонавт". Дивный прохожий скрылся в дверях "Чайной".
Что-то, — возможно, созревшее внутри желание общения, — потянуло меня за те же двери. Я вошел в помещение и сразу вспомнил пивные моей далекой молодости. Дым коромыслом, матерщина, кислый запах плохого пива и духота. Я чуть было не повернул назад.
— Андреич! — услышал я крик.
Саболыч?!
— Андреич, друг! — орал он. — Двигайся, ребята! Двигайся, кому говорят, не то ка-а-ак боксану!..
За круглым высоким столом стояли трое. Кроме Саболыча, были: успевший занять место у стены изумительный пешеход со странной фуражкой и… Викжель!
— Вот так встреча, — расплылся он.
— Да вы, никак, знакомы? — удивился Саболыч, поглядывая попеременно то на Викжеля, то на меня.
Седобородый наполнил стакан и придвинул его ко мне.
— Лопатенко, Николай Александрович, — представился он, — бывший профессор Московского университета…
— Андреич, ты где пропадал? — спросил Саболыч.
Я замялся.
— Андрей Андреевич у нас путешественник… — усмехнулся Викжель. — А ты не приставай к человеку! Пусть сначала выпьет…
Все подняли стаканы.
— За что пьем? — Викжель вопросительно завертел головой.
— За Советскую власть! — рявкнул Саболыч.
Все чокнулись. Саболыч одним махом опрокинул стакан в глотку и добавил тихо:
— Хер на нее класть!
— А почему вы в тапочках, профессор, — поинтересовался я, жадно закусывая бутербродом с килькой.
— Он пошел в понедельник на прошлой неделе выносить мусор, а тут революция… — объяснил за него Саболыч и радостно заржал.