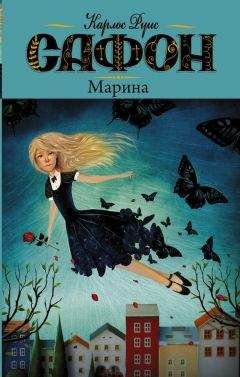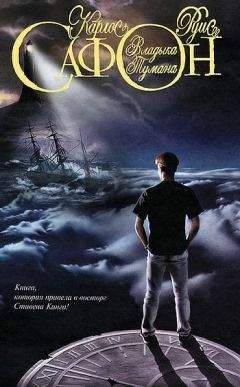Карлос Сафон - Марина
— А зачем ему было брать имя пациента лечебницы? — спросила Марина.
— В то время это было делом привычным, — объяснил Флориан. — В послевоенное время взять другое имя означало начать жизнь заново. Оставить кошмарное прошлое позади. Вы еще очень молоды, и в годы войны вам жить не довелось. Вы и не знаете тех, кто после нее начал жизнь заново…
— Думаете, Кольвенику было, что скрывать? — спросил я. — Может, пражская полиция о нем что-то знала…
— Думаю, это простое совпадение. Бюрократия. Поверьте, уж я-то знаю, о чем говорю, — сказал Флориан. — Даже если Кольвеник из архивов больницы был тем самым Кольвеником, это мало что нам дает. Его имя упоминается в полицейских отчетах в связи со смертью некоего хирурга под той же фамилией — Антонина Кольвеника. Дело было закрыто: естественная смерть.
— Тогда причем тут психлечебница? — спросила Марина.
— Флориан несколько секунд молчал, будто бы не решаясь ответить. — Есть подозрение, что он проводил эксперименты с телом умершего…
— Какие?
— Пражская полиция не уточнила, — сухо ответил Флориан и зажег сигарету.
Мы надолго замолчали.
— А что там говорил нам доктор Шелли? Про близнеца Кольвеника, врожденные заболевания и…
— Так ему сказал Кольвеник. Для этого человека обманывать было так же легко и естественно как дышать. А у Шелли были причины верить ему, не задавая лишних вопросов, — сказал Флориан. — Кольвеник финансировал его медицинский институт и исследования до последнего песо. Шелли практически работал на «Вело Гранелл». Прихвостень…
— Так значит, у Кольвеника не было брата? — я совсем запутался. — Но ведь это объясняло его одержимость врожденными аномалиями…
— Думаю, все-таки был, — перебил инспектор. — Мне так кажется.
— Так значит…
— Думаю, тот мальчик, о котором Кольвеник рассказывал, был он сам.
— Еще один вопрос, инспектор…
— Я уже не инспектор, милая.
— Тогда Виктор. Можно же вас так называть?
Флориан первый раз улыбнулся расслабленно и открыто.
— Что за вопрос?
— Вы сказали, что когда начали расследовать дело «Вело Гранелл» по факту мошенничества, всплыло кое-что еще…
— Да. Поначалу нам казалось, что это просто способ прикрыть финансовые махинации: несуществующие платежки и счета, чтобы скрыться от налогов, счета из больниц, приютов для нищих и так далее. Но одному из моих людей бросилось в глаза, что некоторые счета фактур проходили с подписью доктора Шелли, а именно услуги моргов различных больниц Барселоны.
— Кольвеник продавал трупы? — спросила Марина.
— Нет. Он их десятками скупал — бродяг без семей и знакомых, самоубийц, утопленников, брошенных стариков… Всех, кого отринул это город.
В глубине помещения, словно эхо нашей беседы, бормотало радио.
— И что он делал с этими трупами?
— Никто не знает, — ответил Флориан. — Мы их никогда не увидим.
— Но у вас имеется своя теория на этот счет, не так ли, Виктор? — настаивала Марина.
Флориан молча посмотрел на нас.
— Нет.
Для полицейского, даже отставного, врал он неважно. Марина не стала развивать тему. Инспектор явно подустал, вытаскивая на свет тени, населявшие его прошлое. Его наносная свирепость исчезла. Сигарета в его руках дрожала, и сложно уже было сказать, кто из них кого курит.
— Что же до оранжереи, о которой вы говорили… Не вздумайте туда возвращаться. Забудьте это дело. Забудьте альбом с фотографиями, безымянную могилу и даму в черном. Забудьте Сентиса, Шелли и меня. Я всего лишь жалкий старик, который сам не знает, что мелет. Эта история уже сгубила слишком много жизней. Не ввязывайтесь.
Он подал официанту знак, чтобы тот рассчитал нас, и подытожил:
— Обещайте мне, что так и сделаете.
Он спрашивал меня так, словно это мы гнались за этим делом, а не оно преследовало нас по пятам. После того, что произошло прошлой ночью, его слова звучали для меня как волшебная сказка.
— Мы попытаемся, — сказала Марина за нас обоих.
— Дорога в ад вымощена благими намерениями, — ответил Флориан.
Инспектор проводил нас до фуникулерной станции и дал телефон забегаловки.
— Тут меня знают. Если вам что-нибудь понадобится, позвоните, и мне передадут сообщение. В любое время дня и ночи. У Мано, хозяина заведения, хроническая бессонница, так что он каждую ночь слушает Би-Би-Си или изучает языки… Вы его не побеспокоите.
— Не знаю, как вас благодарить…
— Лучшая благодарность — держаться подольше от этого дела, — отрезал Флориан.
Мы кивнули. Двери фуникулера открылись.
— А вы, Виктор? — спросила Марина. — Что будете делать вы?
— То же, что и все старики: сидеть и вспоминать прошлое. И думать, поступил бы ли я иначе, повернись время вспять. Ладно, вам пора…
Мы вошли в вагон и уселись возле окна. Вечерело. Прозвонил звонок, и двери закрылись. Фуникулер со скрипом двинулся вниз. Огни Вайвидреры постепенно оставались позади, как и силуэт Флориана, застывший на перроне.
Герман приготовил на ужин вкуснейшее итальянское блюдо, название которого звучало как часть репертуара оперного театра. Мы ужинали на кухне, слушая рассказ Германа о поединке с падре, которому он, как обычно, проиграл. Марина была необычайно тиха, разговаривали в основном мы с Германом. Я даже спросил, не обидел ли я ее каким-нибудь словом или поступком. После ужина Герман предложил мне сразиться в шахматы.
— Я бы с радостью, но, пожалуй, помыть посуду у меня лучше получится, — отшутился я.
— Я помою, — тихо сказала Марина у меня за спиной.
— Нет, правда… — возразил я.
Герман уже готовился к сражению в другой комнате, выстраивая на доске фаланги шахматных войск. Я повернулся к Марине, которая отвела взгляд и пошла мыть тарелки.
— Скажи, чем тебе помочь.
— Ничем. Иди к Герману — ему будет приятно.
— Оскар, вы идете? — раздался из соседней комнаты голос Германа.
Я в свете свечей смотрел на Марину. Она была бледной и уставшей.
— Ты хорошо себя чувствуешь?
Она повернулась и улыбнулась мне. Марина умела улыбаться так, что я чувствовал себя жалким и беспомощным.
— Иди давай. И позволь ему выиграть.
— Это будет несложно.
Я запомнил это и оставил ее одну.
Я вошел в зал, где меня ждал ее отец.
Там, при свете кварцевого канделябра, я расположился за шахматной доской, где он столько времени проводил со своей дочерью.
— Ходите, Оскар.
Я сделал ход. Он тихонько покашлял.
— Насколько я помню, пешки так не ходят, Оскар.
— Прошу прощения.
— Не извиняйтесь. Это юношеский задор. Вы не думайте, я все прекрасно понимаю. Юность — как капризная невеста. Мы ее не ценим и не понимаем, пока она не покидает нас навеки… эх… не знаю, к чему это я… итак, пешка…
Около полуночи меня разбудил какой-то звук. Дом был погружен во мрак. Я сел на кровати и услышал этот звук вновь. Приглушенный кашель. Обеспокоенный, я встал с кровати и вышел в коридор. Шум доносился с нижнего этажа.
Я остановился у входа в спальню Марины. Дверь была открыта, в кровати никого. Я ощутил укол страха.
— Марина?
Ответа не было. Я на цыпочках спустился по холодным ступеням. У подножья лестницы блестели глаза Кафки. Кошка тихо мяукнула и повела меня по темному коридору. В конце коридора из-под закрытой двери струился свет. Кашель доносился оттуда — болезненный, надрывный. Кафка подошел к двери и, мяукая, остановился.
Я тихонько постучал.
— Марина?
Долгая пауза.
— Входи, Оскар.
Ее голос походил на стон. Я подождал несколько секунд и вошел. Свеча, стоявшая на полу, едва освещала ванную комнату белого кафеля. Марина стояла на коленях, перегнувшись через край ванны.
Она вся дрожала, а пропитавшаяся потом ночнушка облегала ее тело, словно саван. Она закрыла лицо, но я видел, что из носа течет кровь, а на груди расплываются алые пятна. Я застыл на месте, парализованный.
— Что с тобой? — тихо спросил я.
— Закрой дверь, — твердо сказала она. — Закрой.
Я сделал, как она велела, и подошел к ней. У нее был жар. Волосы, мокрые от холодного пота, прилипли к лицу. Я испугался и хотел броситься на поиски Германа, но она вдруг невероятно сильно схватила меня рукой.
— Нет!
— Но…
— Я в порядке.
— Ничего подобного!
— Оскар, делай, что хочешь, но Германа не зови. Он не может ничего сделать. Все уже прошло. Мне лучше.
— Да ты бледнее смерти, — пробормотал я.
Она взяла мою руку и прижала к груди. Я почувствовал, как под ребрами быстро бьется сердце. Я в замешательстве убрал руку.
— Жива и здорова. Видишь? Обещай, что не скажешь Герману.
— Почему? — возмутился я. — Да что с тобой такое?
Она опустила глаза, бесконечно уставшая, и нагнулась ко мне.