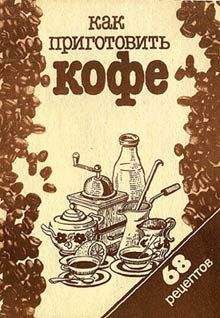Софья Ролдугина - Кофе со льдом
— Решили приобщиться к творчеству сеньора Рикко, леди Виржиния? День добрый!
— Приветствую вас, мистер ла Рон, рада… — «видеть вас в своей кофейне снова» чуть было не сказала я по инерции, но вовремя умолкла и приветливо улыбнулась. — Что привело вас в Королевскую галерею?
— Как всегда, работа, — развел руками репортер и сделал знак фотографу, чтоб тот прошел дальше и продолжил съемку. — Мой коллега, который обычно заведует обзорами событий в мире искусства, тяжело заболел, а он выручал меня несколько раз… Вот, подменяю его. Правда, в кубизме я не слишком разбираюсь, — добавил он громким шепотом, смешно задирая брови. — Но тут главное сыпать терминами и этак слегка снисходительно восхищаться. Так что пока погляжу, а к вечеру сяду за статью. Видите — ношусь, как проклятый, пишу за двоих.
— О, успехов вам в этом непростом деле, — улыбнулась я и кивнула стоящей неподалеку леди Клэймор, давая понять, что у меня деловой разговор. Она сразу поняла — не в первый раз такое происходило — и продолжила разглядывать картины. — К слову, вы читали ту ужасную статью в последнем номере «Вестей Аксонии»?
Ла Рон в лице переменился.
— Только не говорите мне, что видели эту… эту… эту недоделку! Какой позор — такая солидная газета, и в ней кошмарная, насквозь скандальная статейка о призраках! Как вспомню — стыдно становится за всю нашу журналистскую братию… Леди Виржиния, я не знаю, кто этот человек, но у него определенно есть покровитель, — трагически подытожил ла Рон, тяжело вздохнул и вытер испарину со лба тыльной стороной руки. — Этот «мистер Остроум», который взял себе сейчас наивульгарнейший псевдоним «Озабоченная Общественность», пишет такие статьи, что ни один приличный редактор их не пропустит. В «желтых» газетах по четверть рейна — да, но не в «Бромлинских сплетнях» и не в «Вестях Аксонии». Знаете, у него статью завернули только однажды. Когда он хотел написать о том злополучном бале в ночь на Сошествие. Я видел текст — очень много посвящено героизму какого-то сэра Фаулера, распознавшего заговорщика, который прятался за образом леди в розовом платье. И еще — домыслам о том, кем могла быть захваченная в заложницы Леди Метель, — со значением произнес ла Рон и бросил на меня неожиданно острый взгляд, но я ответила очередной безмятежной улыбкой. — Всего одну статью завернули. А ведь даже меня — меня! — частенько просят «придержать» материал. Каково, а?
«Две статьи», — подумала я, вспомнив разговор с дядей Рэйвеном несколько дней назад.
Интересно, это действительно всего лишь совпадение, что многие статьи «Остроума» так или иначе касаются меня?
Не знаю, что послужило причиной — дневные ли волнения из-за статьи, насыщенный ли вечер в кофейне или подоспевшая документация на новую текстильную фабрику на западе графства Эверсан, но усталость подкосила меня прямо в кабинете. В половине второго ночи я еще, кажется, пыталась вчитаться в смету, присланную управляющим на подписание… но потом — провал в памяти и сон.
Очень, очень странный сон.
…а жара всё не спадает.
Девять дней — ни дождинки, ни даже вздоха прохладного ветерка. Город, туманный и сырой в любое время года, словно засунули в раскаленную печь. Жухнет и выцветает листва на деревьях; обмелевший Эйвон пахнет мертвой рыбой; гарь и дым постепенно выползает из «блюдца» Смоки Халлоу и подбирается к благополучным районам. Уже сейчас люди там кашляют и нет-нет, да и поглядывают на небо: не видно ли тяжелых ливневых туч на горизонте?
Но небо по-прежнему лишь блеклая, выжженная, злая голубизна.
Между храмом и высокой каменной оградой, в густой тени, прячется жизнь. Она пробивается из земли тугими ростками, распрямляется пахучими листьями и стеблями — базилик, тимьян, розмарин, шалфей, медуница, эстрагон, любисток, душица, мята, полынь и рута; это моё царство, моя колдовская поляна, и даже Мэри-Кочерга не осмеливается заглядывать сюда без моего позволения. Каждый день, еще до света, я поднимаюсь и иду к колодцу, чтобы набрать воды напоить землю. А потом — обхожу свои владения посолонь и шепчу слова, которые знала всегда: пышна квашня, земля щедра, расти выше, тянись к солнцу. Отец Александр говорит, что это ересь, но по-настоящему никогда не сердится. Наверно, ему тоже нравится, когда все растет и цветет, даже в такую засуху.
Особенно в такую засуху…
А в храме пахнет не цветами, а скипидаром и еще чем-то острым, чужим. Во время утрени мы все чаще смотрим не на алтарь, не на трепещущие огни свечей — жарко, Святые Небеса, как жарко! — а на стены, где сквозь серую штукатурку проступают сияющие картины. Невиданные цветы и звери, облака, сияющий свет, чьи-то простертые в мольбе руки… Поначалу это всего лишь наброски, но с каждым днем они становятся все более настоящими, полными жизни и света. И благодарить за это нужно того, кто во время службы всегда остается в храме на самой дальней скамье — высокого, тощего чужака с черными глазами, у которого руки всегда испачканы в краске.
Этот человек — художник, он наполняет наш храм жизнью и чудесами, отец Александр приветливо улыбается ему, а девочки постарше дерутся за право принести ему обед с кухни. Они смеются и говорят, что я дичусь, что я дурочка. Но Мэри-Кочерга тоже отчего-то его сторонится, а вчера я видела, как из-за угла храма на художника смотрел человек в зеленой шляпе с изломанным пером и хмурился.
Вспоминать это отчего-то тревожно.
Днем я помогаю в хлебопекарне за углом, а вечером опять бегу в свои владения. Запах трав в разогретом воздухе такой сильный, что кружится голова; хочется лечь между грядками, щекой к пышной земле, и уснуть. Иногда я так и делаю. Вот и сегодня — дремлю с открытыми глазами, глядя в медленно ржавеющее небо, слушаю и дышу. Наверное, так должно пахнуть на небесах. Тимьян и мята, базилик и розмарин…
В храме двое — они тихо разговаривают, но звук отдается от стен, и я слышу все. Это снова Баст и, конечно, художник. Завтра Мэри-Кочерга опять будет ругаться: ох, Себастиан, мазня не дело для мужчины! Но ведь картины ей нравится, и она не может не видеть, что у Баста такие же волшебные руки и глаза, и только мастерства ему не хватает, а мастерство — вот оно, только шагни, только приди в храм этим вечером, и следующим, и следующим… Смотри и спрашивай, спрашивай и смотри. Художник ответит.
Закрываю глаза.
Где-то далеко, у реки, звенит пожарный колокол.
Художник уходит в город до вечерни, в приюте он никогда не ночует. Баст провожает его до ворот и долго смотрит вслед. Я вижу это будто бы с высоты, как большая птица, парящая над храмом, и не знаю, сон это или явь.
Небо уже совсем ржавое.
Себастиан покачивается на пятках, держась рукою за ворота, и что-то бормочет себе под нос. Потом оборачивается — на храм, на приют, задирает голову кверху и смотрит прямо на меня.
Я кричу — а слышу вороний грай.
Баст зябко передергивает плечами, а потом медленно, словно таясь от кого-то, делает шаг, другой, третий… Через двор, через пустырь, к длинной улице, добегает до угла — и заворачивает.
Дальше я уже не вижу ничего.
Себастиан не вернется ни к утренней службе, ни даже к завтраку.
Донн!
Я резко отшатнулась, задевая локтем стопку бумаги, и не сразу осознала, что нахожусь в своем кабинете, а часы бьют три пополуночи. Слишком яркий и резкий электрический свет резал глаза. Меня сотрясала крупная дрожь, а домашнее платье, кажется, выжимать можно было.
Сон стоял перед глазами, как живое воспоминание о чем-то настоящем, как осколок чужой судьбы, по недомыслию вставленный в мою мозаику.
— Святые Небеса… — сипло прошептала я. — Святые Небеса…
Если задуматься, то в самом сне не было ничего страшного — жаркое лето, немного похожее на прошлое, снова приют имени святого Кира Эйвонского, невероятной красоты роспись на стенах… Наяву, в храме, она была далеко не такой яркой, словно время выпило из нее все цвета.
Нет, ничего страшного — так почему же от ужаса я едва могла говорить?
Шнурок от колокольчика не сразу дался в руки — он извивался, как живой. Но когда я позвонила, подзывая Магду, то мне сразу полегчало. Конечно, нехорошо будить ее посреди ночи только для того, чтобы она заварила мне успокоительный чай…
Нет, глупость какая, стесняться звать прислугу — это уже слишком!
Я поджала губы и дернула за шнурок еще раз, настойчивей, чем в первый.
Магда не пришла ни через минуту, ни через две, ни через пять. И я уже начала сердиться, когда вспомнила, что сама же дала служанке выходной — ее младшего внука завтра должны были завтра отнести в церковь на имянаречение.