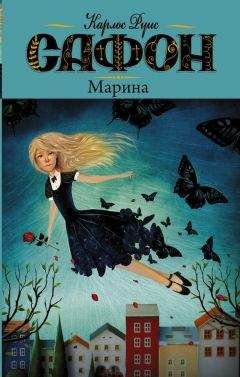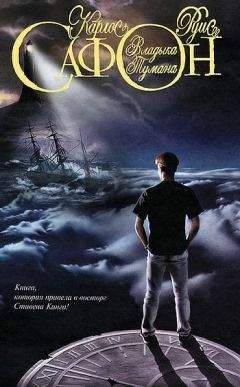Карлос Сафон - Марина
Ослепленные светом, мы перекатились по камням в сторону. Многотонная металлическая машина промчалась всего в нескольких сантиметрах, обдав нас дождем искр. Останки уродца дымились на рельсах, словно угли в костре.
Когда поезд проехал мимо, мы открыли глаза. Я повернулся к Марине и кивнул в знак того, что я в порядке. Мы медленно поднялись. Ногу пронзила пульсирующая боль.
Марина положила мою руку вокруг своего плеча, и таким образом мы перебрались на другую сторону железной дороги. Только когда мы там оказались, нам хватило смелости оглянуться. Что-то двигалось между рельсами, сверкая под луной. Это была деревянная рука, отрезанная поездом. Она конвульсивно дергалась, увеличивая амплитуду, а потом замерла. Не говоря ни слова, мы прошли через кусты и направились вверх по улице Ангиль. Вдалеке слышался звон колоколов.
К счастью, когда мы пришли, Герман спал у себя в кабинете.
Марина тайком провела меня в одну из ванных комнат, чтобы при свечах смыть с ноги кровь. Плиточные стены и пол отражали свет. В центре располагалась массивная ванна на четырех металлических ножках.
— Снимай штаны, — сказала Марина с аптечкой в руках, стоя ко мне спиной.
— Что?
— Ты слышал.
Я сделал то, что она говорила, и положил ногу на край ванны. Порез был глубже, чем мне казалось, а кожа по краям уже стала ярко-красной. Меня затошнило.
Марина встала на колени и внимательно осмотрела рану.
— Тебе больно?
— Только когда смотрю на ногу.
Моя свежеиспеченная медсестра взяла пропитанный спиртом кусочек хлопковой ткани и поднесла его к порезу.
— Будет жечь…
Когда спирт попал на рану, я сжал край ванны с такой силой, что там должны были остаться отпечатки моих пальцев.
— Мне жаль, — прошептала Марина и подула на рану.
А мне-то как жаль.
Я глубоко вздохнул и закрыл глаза, а Марина продолжила аккуратно промывать мне рану. Наконец, она взяла из аптечки бинт и твердой рукой, как профессионал, приложила к порезу, не отрывая глаз от того, что делала.
— Им нужны были не мы, — сказала Марина.
Я не очень понимал, о чем она.
— Этим марионеткам в оранжерее, — добавила она, не глядя на меня. — Им нужен был альбом с фотографиями. Мы не должны были его брать…
Я чувствовал ее дыхание на своей коже, когда она перевязывала мне ногу.
— Про тот день на пляже… — начал я.
Марина замерла и подняла взгляд.
— Нет, ничего.
Она наложила последний бинт на порез и молча посмотрела на меня. Казалось, Марина хотела что-то сказать, но в итоге лишь встала и вышла из ванной.
Я остался в компании свечей и рваных штанов.
Глава тринадцатая
В интернат я вернулся уже за полночь, когда все товарищи уже легли спать, но из замочных скважин их комнат в коридор еще струился свет. Я на цыпочках пробрался в свою комнату. Я с огромным облегчением закрыл дверь и взглянул на будильник на прикроватной тумбочке. Почти час ночи. Я включил настольную лампу и вытащил из сумки альбом с фотографиями, который мы взяли в оранжерее.
Я открыл альбом и по новой погрузился в калейдоскоп персонажей, которые его населяли. На одном изображении была рука со сросшимися перепончатыми пальцами, как у амфибий. На следующей странице белокурая девочка в светлом платье улыбалась почти демоническим оскалом, обнажавшим волчьи клыки над губами. Страница за страницей проходили передо мной эти жуткие капризы природы.
Двое альбиносов, кожа которых, казалось, сгорит от первого же луча солнца. Сиамские близнецы, сросшиеся головами, всю жизнь повернутые лицом друг к другу. Обнаженное тело женщины с позвоночником, кривым, как сухая ветка… Почти все были детьми или подростками, многие младше меня. Взрослых и стариков единицы. Я понимал, что надежды на жизнь у этих созданий практически не было.
Я вспомнил, как Марина сказала, что альбом не наш и мы не должны были его трогать. Теперь, когда адреналин больше не играл в крови, это высказывание представлялось мне в ином свете. Своими действиями я осквернял чужие воспоминания, которые мне никогда не принадлежали. В каком-то смысле коллекция печальных снимков этих несчастных была семейным альбомом. Я быстро просмотрел все страницы, чувствуя между фотографиями связь, которая была сильнее времени и пространства. Наконец, я закрыл альбом, убрал его обратно в сумку и выключил свет. В голове возник образ Марины, которая шла по своему любимому пляжу вдоль берега. Я провалился в сон.
На следующий день тучам надоело бороздить просторы барселонского неба, и они унесли дожди на север. Словно тюремный заключенный, я сбежал с последнего урока, чтобы встретиться с Мариной. Тучи больше не заслоняли синее покрывало неба.
Солнце ласкало теплыми лучами улицы города. Она ждала меня в саду, сидя за своей таинственной тетрадью и закрыла ее, как только увидела меня. Я спросил, о чем она писала — обо мне или о том, что с нами случилось в оранжерее.
— Как твоя нога? — спросила она, прижимая тетрадь обеими руками к груди.
— Жить буду. Пойдем, мне надо тебе кое-что показать.
Я достал из сумки альбом, сел рядом с ней на парапет фонтана и перевернул несколько страниц. Марина горестно вздохнула, увидев снова эти изображения.
— Вот, — сказал я, остановившись на фотографии в конце альбома, — пришло мне в голову утром.
— До сегодняшнего дня я не замечал…
Марина пригляделась к снимку, который я показывал. Это была черно-белая фотография, очень четкая и контрастная, такая, которую можно было бы встретить в приложении к научной диссертации. На ней был запечатлен человек с сильно деформированным черепом и искривленным позвоночником, который едва выдерживал вес несчастного. Он опирался на молодого человека в белом халате и круглых очках, с аккуратными усами и галстуком. Это явно был врач.
Доктор смотрел в объектив, а пациент прикрывал глаза рукой, будто бы стыдясь своего вида. Позади просматривалась гардеробная и вход в медицинскую консультацию.
В углу была приоткрытая дверь, из-за которой выглядывала маленькая девочка с куклой в руках. В отличие от остальных снимков, этот представлял собой нечто большее, чем медицинский документ.
— Посмотри внимательнее, — настойчиво сказал я.
— Я вижу только этого бедолагу…
— Смотри не на него, а на то, что за его спиной.
— Окно…
— А что ты видишь в этом окне?
Марина нахмурила брови.
— Узнаешь? — спросил я, указывая на изваяние дракона на фасаде здания, которое было видно из окна.
— Я его где-то видела…
— Я подумал то же самое, — подтвердил я. — Это здесь, в Барселоне, на улице Рамблас, перед театром «Лицео». Из всех снимков только этот был сделан в Барселоне, — я вытащил фотографию из альбома и протянул ее Марине. На обороте едва различимыми буквами было написано:
Студия фотографии «Марторель Боррас», 1951
Доктор Джон Шелли, улица Рамбла-Де-Лос-Эстудиантес 46, 48, первый этаж
Барселона
Марина пожала плечами и отдала мне снимок.
— Оскар, это ничего не значит. Уже тридцать лет прошло…
— Сегодня утром я заглянул в телефонную книжку. Некий доктор Шелли по-прежнему проживает на первом этаже по адресу Рамбла-Де-Лос-Эстудиантес 46, 48. Имя показалось мне знакомым, и я вспомнил, что Сентис упоминал Джона Шелли, который стал первым другом Кольвеника в Барселоне…
Марина пристально посмотрела на меня.
— И ты на радостях не ограничился ознакомлением с телефонной книжкой…
— Я ему позвонил, — признался я. — мне ответила дочь доктора Шелли, Мария, и я сказал, что нам необходимо побеседовать с ее отцом по очень важному вопросу.
— И тебе просто так удалось?
— Сначала нет, но когда я упомянул имя Кольвеника, она заговорила по-другому. Ее отец примет нас.
— Когда?
Я посмотрел на часы.
— Через сорок минут.
На Плаза-Каталунья мы сели в метро. Уже смеркалось, когда мы подошли к лестнице, выходившей на улицу Рамблас. Приближалось Рождество, и город был освещен множеством гирлянд. Фонари освещали контуры разноцветных силуэтов вдоль бульвара. Стаи голубей перемещались между цветочными киосками и кафе, бродячими музыкантами и кафешантанами, туристами и местными, полицейскими и мошенниками, горожанами и призраками других эпох. Герман был прав: такого города нет нигде в мире.
Перед нами возвышался силуэт театра «Лицео», в котором сегодня давали оперу.
Приемная доктора Джона Шелли, которая работала уже много лет, занимала первый этаж тускло освещенного старого особняка.
Мы пересекли похожий на пещеру вестибюль, в котором была роскошная лестница в виде спирали, поднимавшаяся на второй этаж. Эхо наших шагов заполняло холл. Я заметил, что молоточки на дверях были выполнены в виде ангельских лиц. Витражи на подобие соборных украшали слуховые окошки, превращая помещение в огромный калейдоскоп. На первом этаже, как и во всех домах того времени, их не было, только на третьем.