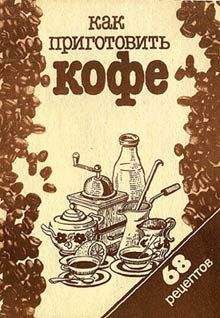Максим Далин - Обманная весна
Грин отдышался и обернулся.
— Слушай, Грин, — сказал Иван, — что с тобой происходит, а? Знаешь, меня что-то совершенно не радует, что мы поймали живьем эту погань… потому что она на тебя плохо действует.
— Надо будет там окно занавесить, — сказал Грин, будто не слышал. — День, конечно, будет пасмурный, но солнце и за облаками солнце…
— Ты хочешь ее тут на целый день оставить? — Иван был шокирован до глубины души. — На целый день?
Грин вытащил из пачки сигарету и закурил. Несколько минут следил за перетекающими струйками дыма. Наконец сказал:
— Я хочу оставить ее насовсем.
Иван сел.
— Как?
— Просто, — сказал Грин, как всегда говорил Грин. Спокойно, уверенно и жестко. — Она моя. Моя добыча. Мне принадлежит. Я ее хочу… в смысле, себе оставить хочу. Она мне дает… сама… что у других забираю, когда отстреливаю. Это тяжело объяснить. Просто — прими как данность.
Иван почувствовал, как изнутри снова поднимается паника.
— Грин, — зачастил он, — ну что ты говоришь? Тебе ж и на живых-то потаскух было наплевать… что тебе дохлая? Слушай, давай шлепнем эту мразь и к бате сходим посоветоваться… с тобой что-то не то происходит. Ты помнишь, как меня учил?..
Грин усмехнулся, потушил сигарету, положил Ивану руку на плечо — снова пришла минутка, когда он стал самим собой.
— Знаешь, Ванюха, — сказал он грустно, — похоже, я втянул тебя… не туда.
Иван задохнулся, схватил Грина за руки, заглянул в лицо, сказал в ужасе:
— Как — не туда? Мы же столько сделали с тобой! Мы же воины света, мы спасали людей от дьявола, все так здорово получалось, и батя…
— Идиоты мы, а не воины света, — сказал Грин.
Его голос был ровен, лицо отрешенно спокойно.
— Грин, — сказал Иван умоляюще, — ну приди в себя! Ты же сам понимаешь, что это наваждение! Иллюзия! Помнишь, ты мне сам говорил и батя то же самое всегда говорит! Ты же не хочешь быть под властью дьявола, правда?
— Надули нас с тобой, — проговорил Грин, опять так, будто не слышал Ивана. — Надули.
— Очнись, Грин! Кто надул? Батя!?
— Ну почему… его тоже надули. Нас всех надувают. Все — неправда.
— А что — правда?! — выкрикнул Иван в отчаянии. — То, что эта мразь несет?!
Грин взял со стола «беретту» и принялся ее осматривать.
— Пристрелишь ее? — спросил Иван с надеждой.
Грин крутил в руках пистолет и думал. Потом медленно проговорил:
— Шел бы ты домой, Иван. Иди, подумай, и я тоже подумаю, а завтра поговорим. Сегодня, по-моему, не выйдет разговора.
— А как же вампирша? — спросил Иван потерянно.
— С вампиршей я сам разберусь, — Грин сунул пистолет в карман куртки, как в кобуру. — Не беспокойся, она меня не тронет.
— Откуда ты знаешь?
— Чувствую… Ну все, иди поспи, увидимся утром.
— Может я у тебя, а? — спросил Иван с последней надеждой. — Так спокойнее…
Грин вдруг взорвался.
— Черт подери, Иван, ты мне веришь?
Именно эта вспышка и то, что Грин впервые после командировки помянул нечистого, окончательно убедили Ивана в полной ненормальности происходящего.
— Ты прав, — сказал он, глядя Грину в глаза. — Я тебе верю. Я пойду посплю.
Говоря это, Иван испытывал жуткие муки совести — он сознательно врал Грину в первый раз за все немалое время их знакомства.
Иван брел по улице непонятно куда.
Идти домой он не мог — это стало бы окончательным предательством. Грин был в беде, в большой беде, в такой беде, из которой обязательно нужно вытащить, иначе наступит что-то ужасное невыразимо. Наконец-то у Ивана появилось долгожданное и истово вымоленное чувство, что Грин от него зависит. От этого чувства внутри сжималось и болело, но оно же грело его, как внутреннее солнце.
Если Иван кем-то в жизни искренне восхищался, так именно Грином. Грин был его кумиром с того самого момента, когда Иван впервые его увидел. И теперь…
Город был темен и холоден. Мартовская ночь пахла вьюжным февралем. Оцепеневшая земля стыла под смерзшимся грязным снегом без признаков жизни; темное небо с неоновыми отсветами, бурое, низкое, зимнее небо лежало на крышах высоток. Иван мерз от мысли, что это тоже похоже на козни дьявола — холодная весна, которая без лета перейдет в осень. Бесовщина была в этой ночи, безмолвной, глухой, с мертвенным небом, застывшей землей и голыми черными ветвями деревьев. По асфальту под северным ветром извивались тонкие белые хлыстики поземки. Холодный ужас, мертвая злоба, цепенящая жуть была эта ночь — и Иван ускорял шаги.
Ему не давал покоя безумный допрос, превратившийся в беседу. Мертвая девка вызывала не брезгливость и отвращение — как бы этого хотелось! — а ужас и ярость. То, что он говорила…
На что она намекала, говоря, что Грин такой же, как нечисть? Как она посмела сказать, что Грин наслаждается убийствами?! Почему Грин не возражал? И… Господи, как получилось, что Грин так смотрел на нее? Просто — внезапно — приступ похоти? Просто секс?! С мертвецом? У Грина?
Не может быть.
Зачем им сдалась эта тварь, будь она проклята? Может, лучше было отстреливать гадов по одному, в конце концов, это принесло бы свои плоды… Вряд ли какой-нибудь гад посмел бы сунуться под пули, как грозился тот, вчерашний… Нет, дело в том, что Грину захотелось отомстить за насмешку или что-то себе доказать… да и тебе хотелось до смерти побыстрее со всем этим разделаться, оставить, забыть!
Иван потер виски — и вдруг дикая мысль кинула его в жар.
Он уже час, по крайней мере, шляется по улице, а ни одного вампира, ни одной твари — хотя места-то вроде, те же самые. Без Грина — какое у Грина удивительное чутье! Он всегда как будто знает, на что смотреть — а почему, собственно? Вот и говорит всегда: этот, мол, сильный, а этот — так себе, этот молодой, а этот старый… откуда он знает? Для Ивана все вампиры на одно лицо. И все излучают этот кромешный нестерпимый ужас… которого, похоже, никогда не чувствует Грин.
Иван вспомнил, как спокойно Грин взял тварь за руку. За голую кисть — легко, а Ивана всегда передергивает, если он случайно прикасается к обнаженной коже нечисти…
Иван не выдержал. Он решительно повернулся и пошел обратно к дому Грина.
В подъезде Грина стоял дивный запах ванили и ладана.
Ивана всегда коробило, что твари пахнут так… церковно. Сера, гниение, тухлая плоть — это было бы куда тяжелее переносить, но это было бы совершенно естественно, а этот сладкий нежный запах сбивал с толку, смущал и злил. Но в этот раз Ивана куда сильнее смутило другое: почему ваниль?
Раненые, испуганные, издыхающие твари либо не пахнут вовсе, либо пахнут холодом и мятой.
Иван убрал руку от звонка и вытащил из кармана ключ, взятый у Грина «на всякий пожарный» и до сих пор никогда не использовавшийся. Он ужасно жалел, что всегда был у Грина на подхвате, поэтому у него не было своего пистолета. Где-то гринова «беретта» — она бы пригодилась.
Петли, аккуратно смазанные по гринову обыкновению, не скрипнули. Иван вошел.
В квартире было темно, только тонкая полоска желтого света просачивалась в темный и тесный коридор из-под двери в комнату. Было тихо, но не совсем — этакая живая, не сонная тишина.
У Ивана стоял ледяной комок между желудком и ребрами, когда он открывал дверь в комнату. Он был готов ко всему, к самому худшему — к внезапному нападению, к луже крови, даже к тому, что Грин может быть тяжело ранен или убит… но вдруг выяснилось, что все самое худшее представлявшееся — не худшее и не все.
На него никто не напал. Его вообще не заметили.
Девка полулежала на кровати Грина, накрытой куском полиэтилена поверх покрывала. Ее грязная куртка цвета хаки валялась на полу. Вампирша была босая — Иван отлично разглядел маленькие нежные ступни, слишком совершенные, чтобы принадлежать человеку — и светлая брючина на раненой ноге оказалась разрезанной до самого бедра. Грин стоял около кровати на коленях, держа в руке свой знаменитый нож; он делал надрез чуть ниже ее колена, там, где в ногу вошла пуля. Из-под лезвия текла черная кровь, входное отверстие на ноге, белой и гладкой, похожей на полированный мрамор, обуглилось по краям, и нож скрипел по обугленной плоти, будто резал пенопласт. Грин выглядел так, будто оказывал первую помощь кому-нибудь из отделения после боевой операции — по крайней мере, со спины было похоже.
А вампирша вцепилась в край подушки тонкими пальцами, поголубевшими на сгибах. Ее запрокинутое лицо с полузакрытыми глазами выражало какую-то пьяную неотмирность, запредельную боль и запредельное наслаждение вместе. Мечтательная мука — и Иван помимо воли подумал, что нестерпимо тяжко видеть это выражение на лице чужой женщины, кто бы она не была.
Когда Грин раздвинул края разреза и в черном блеснуло серебро, вампирша беззвучно выдохнула сквозь зубы и из уголка ее глаза скользнула кровавая капля.