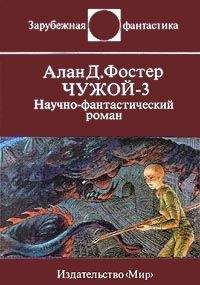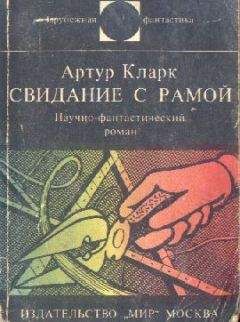Ольга Чигиринская - Мятежный дом
— Майлз специально заставлял меня отрабатывать блок выбросом, с захлёстом при движении руки назад, — он показал «вхолостую», потом показал еще раз, в паре с Крейнером.
— А покажи этот удар из-за головы, — попросил Холмберг.
— Какой? — не понял Дик.
— Ну, когда я пытался достать тебя сверху, через флорд, — пояснил связист. — Ты блокировал и тут же парировал выбросом, я еле успел убраться.
— Атакуйте меня. Может, я вспомню.
Холмберг взял у Крейнера свог и атаковал. Дик тут же вспомнил — не головой, телом — как он парировал: действительно, в момент удара человек настолько открыт, что можно, парируя, выдвинуть клинок — и ему почти некуда будет деваться. Но вместе с тем достаточно опытный боец, вроде Кьелла Холмберга, мог успеть убраться из-под удара и тогда весь выигрыш от эффекта внезапности терялся на возвращении клинка к прежней длине.
— Это не очень хороший прием, — попробовал объяснить он, — я только что его придумал.
По тому, как переглянулись фехтовальщики, он понял, что опять сморозил что-то не то.
— Ты, главное, не забывай его теперь, — посоветовал Крейнер после паузы. — Эффективный контрприем против удара сверху с захлёстом на дороге не валяется.
Дик промолчал, чтобы не ляпнуть еще какой-нибудь глупости. Майлз почти никогда не использовал удар сверху с захлёстом. Если у обычных людей это так часто делают — нужно запомнить.
Офицеры продолжали расспрашивать его — чем больше расспрашивали, тем больше Дик чувствовал себя неловко. Он не умел объяснить почти ничего. Не знал принятых у людей названий связок и приемов. Не всегда мог вспомнить и повторить, что делал в тот или иной момент. Это было все равно что объяснять словами пилотирование в межпространстве — если не хуже. Наконец, увидев, как ему не по себе и утомившись от жары, вояки сжалились и отпустили его.
Дик спустился с раскаленной палубы в душевую, смыл пот. Оттуда пошел в свой кубрик, думая, как скоротать время до ночи, если не позовет Бадрис. Можно было и полежать почитать в прохладе — а с другой стороны, система вентиляции была не на высоте и в кубриках становилось душновато, если там собирались все жильцы. А гемы, когда не было работы, старались держаться подальше от людей и как раз толклись в кубриках.
Дик решил, если будет душно — взять сантор и патрон и читать в столовой. Толкнул дверь кубрика — и чуть ли не носом уперся в адмирала Вальне.
— Оро, — удивился он. — Что вы здесь делаете, сэр?
— То, к чему призывает меня христианский долг, — ответил Вальне с улыбкой. — Исправляю некоторые ваши промахи.
И вышел.
Дик, присев на свою койку, оглядел кубрик. Гемы отводили глаза. Обычно разговорчивые, они сейчас как-то странно молчали.
— Ну? — спросил юноша, поняв, что по собственной инициативе не заговорит никто. — Что стряслось?
— Ран никогда раньше не рассказывал нам про плохое место, — отозвался наконец Семерка, один из старших.
— Плохое место, где злые демоны мучают тех, кто плохо поступал, — добавил Алекс.
— Так, — Дик вдохнул поглубже, чтобы выветрился гнев, поднимающийся в груди как ядовитый газ. — И что же господин Вальне рассказал вам об этом месте?
— О! — глаза Умника округлились как и его рот, — там ужасно! Тех, кто не попал на небеса, но не сделал ничего плохого, выгоняют на холодную равнину, где их кусают злые насекомые! Те, кто не знали Христа, даже если они не сделали ничего плохого, сидят в темном высоком замке. Но дальше страшней. Там одних носит страшный ураган, другие мучаются в болоте под ледяным дождем, третьи корчатся в грязи…
Тут все гемы затараторили наперебой, каждый вспоминая новые ужасные подробности. Дик слушал молча, сжав кулаки. Кто бы мог подумать, что у сухаря Вальне такая богатая и такая извращенная фантазия. Хотя вряд ли он придумал это сам. Скорее всего, где-то вычитал — и тот, кто это написал, явно был человеком злым и на весь мир обиженным. Впрочем, авторство этой злой чепухи не так смущало Дика, как увлечение, с которым гемы предавались переживанию ужаса.
А ты не знал, что сказки бывают и страшными?
— Ямэ, — оборвал он их наконец. Ему хотелось выбежать отсюда, найти Вальне и разбить его вороний нос. Но делать этого было нельзя, и в самую последнюю очередь — ради дисциплины. В первую — ради гемов, ради их золотистых глаз, раскрытых в ожидании нового слова.
— Плохое место, говорите… — юноша взъерошил мокрые волосы. — Да, я не спешил рассказывать вам о нем. Это не главное на самом деле. Если бы Бога нужно было любить только потому что есть ад и Бог решает, кого туда отправить, а кого спасти… то Бога нельзя было бы любить. Он не стоил бы того, чтобы вам о нем рассказывать. Просто еще один хозяин над хозяевами.
— А разве он не…
— Он больше, — сказал Дик. — Много больше.
— А как же… плохое место?
— Ну, — Дик повел плечами. — Вы знаете, что на свете есть плохие люди. И что они сами выбрали быть плохими. Такие, как работорговцы, например. Они не умеют любить. Они умеют только убивать и мучить. Что Богу делать с ними? Что делать, если они хотят такими быть? Им нужно дать место, чтобы существовать. И не выпускать их оттуда, чтобы они не могли больше мучить людей хороших. А раз они все плохие… то, конечно же, это плохое место. Понимаете?
Они молчали и смотрели вопросительно. Дик вздохнул и поискал еще слов.
— Ну, посмотрите на эту навегу. Разве здесь плохое место?
— Нет, нет, — тихим эхом пронеслось по кругу. — Здесь хорошо кормят… и никогда не бьют… и не очень много работы…
— Вот видите. А если бы кормили плохо и били и работы было полно, так что некогда спать… тогда что?
— Тогда это было бы очень плохое место, — сказал Умник.
— Значит, место не может быть плохим само по себе. Люди делают его таким. Или другим. Хорошим местом.
— Но господин Вальне сказал, — Черпак был молоденьким гемом, чуть ли не моложе Дика, — что те, кто делают хомо… обязательно попадут в плохое место.
Дик подавился воздухом.
Хомо — так они называли свои отношения. Ласки, объятия и… все остальное.
«Ну, по крайней мере Вальне избавил тебя от необходимости говорить им это».
— Заткнись, — сказал Дик. — Черпак, я не тебе. Господин Вальне, он… не так много знает про эти дела, как сам думает. Гораздо меньше, чем любой из нас.
«Меньше, чем ты — уж это точно».
Стараясь не обращать внимание на внутреннюю сволочь, сжав пальцы до хруста, Дик продолжал:
— Мы ведь все любим женщин, верно?
— О, да! — Черпак зажмурился и улыбнулся каким-то своим воспоминаниям. — Женщины, они… они как сахар, только лучше!
Некоторые гемы постарше засмеялись. Дик тоже улыбнулся.
— Да, они как сахар, и даже лучше. Но когда их нет… и заняться нечем… и особенно когда холодно и одиноко… вы делаете это друг с другом, так?
Гемы закивали.
— Это неправильно, — подвел черту Дик. — Бог создал мужчину и женщину для того, чтобы они были вместе. Я не знаю, правда не знаю, почему некоторым немодифицированным людям хочется делать хомо…
— Может, им тоже приятно? — предположил кто-то.
— Да, — юноша надеялся, что гемы не заметят, как его прошибает пот. — Это бывает приятно. Почти всегда… есть способы… сделать это приятным. Но не все, что приятно — можно. И не все, что можно сделать приятным, стоит делать… Мужчина не должен быть с мужчиной, так говорит Бог. Он и не со всякой женщиной может быть. В этом адмирал Вальне не ошибся.
— Значит, мы попадем в плохое место? — прошептал Умник.
— Ничего не значит! Господин Вальне, конечно, образованный человек. Он прочитал столько книг, что куда мне до него. Но он не был там, где я и где вы. На самом дне. Где это удовольствие — единственное, что есть… если нет Бога.
Он не мог больше. Откинулся на спину и закрыл глаза.
— Тэнконин-сама! — Черпак потряс его за плечо. — Вам плохо?
— Я в порядке… Послушайте, поймите… люди, которые хотели сделать вас животными… у них есть всё. Я тут почитал кое-что из их истории… из их учения, если можно назвать это учением… Пока живешь — наслаждайся, говорят они. Веселись, пой песни, пей вино… Смотри, как дитя держит твою руку… Но вам-то они этого ничего не оставили. Вам даже любить запрещено: раз — и кого-то продали, и разлучили с ребенком. Этот перепихон — все, что вам оставили. Чтобы говорить самим себе — смотрите, это животные, они трахаются как животные… Мы, люди… делаем не все, что нам хочется. Сдерживать себя — это и значит быть человеком.
Когда ему не хватало слов, он без колебаний вставлял в речь то, что подобрал в Муравейнике, и они понимали.
— У вас лицо дергается.
— А ты не смотри.
Говорить об этом было все равно что… в Муравейнике сказал бы — «жрать собственное дерьмо», но Дик предпочитал не говорить и даже не думать о том, чего ему не приходилось переживать. Глотать собственную кровь — вот, на что это было похоже.