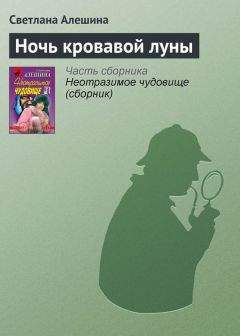Зуфар Гареев - Мультипроза, или Третий гнойниковый период
И показала цветную фотографию из «Огонька», подписанную так: «Н. Мордюкова и Ю. Гагарин на сочинском пляже».
Зарделся паренек от эротики, пошел красными непристойными пятнами и глубоко в карман фотографию спрятал, воровато оглядевшись при этом по сторонам.
Идрисова метнулась быстренько с письмецом дальше и видит перед собой политически грамотного офицера, который ей путь заступил: глазом щурится соколиным, ухом прядает и компьютером целится, да прямо в сердце Идрисовой.
Сунула Идрисова ему кроссвордик на военную тему, козырнул офицер, углубился в разгадку, рукой махнул: пустить.
Заметался дворец, задрожал, шарахнулся, и по всем этажам с удовлетворением пронеслось:
– К уборщице Клещук курьер прибыл!
Выкатилась уборщица Клещук заспанная, зевает, сладко щурится. По дворцу Идрисову повела, всякие штучки показывает.
– А вот тут, дорогая ты Идрисова моя, – говорит наконец Клещук, – туалет мой личный находится...
Ахнула Идрисова.
Унитаз весь сырковой массой припущен, что по пятьдесят одной копейке, да творожком весь выложен.
А с потолка сосиски свисают, да яичками по 90 копеек приправлены. А в унитазе – господи! Не вода течет, а молоко булькает: да не простое, а топленое да цельное, и жиру в нем – шесть процентов, вот! Для кремлевских небожителей!
А рядом-то!
Рядом молодой человек стоит, мускулом играет, щеки красные, словно яблочки, улыбается.
– Присядьте свежесть получить, – говорит молодой человек и руку подает, и голову почтительно наклоняет.
Подала Идрисова письмецо Клещук. Читала-читала Клещук да так и не разобрала, чего от нее Капитоныч хочет.
– Устно ты мне свою просьбу изложи, дорогая!
– Самого ты министра утренних дел для Капитоныча вышли, вот! – сказала Идрисова.
Клещук гаркнула на весь дворец так что эхо отдалось в Грановитой палате:
– Мине министра дать, ать, ать!
И как понеслось по кулуарам:
– Для Клещук! Для Клещук!
Через минуту черная «Волга» с зашторенными окнами мчалась, рассекая пополам улицы.
Вскоре она остановилась, из нее выскочил министр утренних дел, крикнув своим клевретам:
– Шашлыку вы дайте мне все!
Ему дали шашлыку в зелени и в крови, и он стал есть при полной тишине. За спиной его отчетливо блеснули багровые зарницы и золотые купола с рубиновыми звездами.
Старик Мосин жалобно завыл на помойке, услышав запах мяса кровавого, хруст челюстей услышав.
Вместо правого башмака у министра было свиное копыто с прилепившимся глазом человеческим и кусочком кишки.
Министр бросил портфель в сторону, скинул кожаный плащ и закричал, стукнув копытом семь раз оземь:
– Мать ты моя родная, а я сын твой, вот!
Он сильно поцеловал Гилявкину в губы и закричал:
– Кто ж тебя обидел тут, маманя-говняня моя ты номенклатурная-макулатурная да халтурная?
– Она! – крикнула Гилявкина, и министерские работники, давясь шашлыками, хрипя и тараща глаза, бросились бить Тихомирову.
– О, нет, не сковырнешь меня ты отседов! – закричала Тихомирова. – Потому что за правду я!
– А мы за что? – гаркнул министр. – В порошок сотру!
Он веером изрыгнул изо рта кровь и зелень шашлыка.
– Фу ты! – закричала Тихомирова, отмахивая от себя зловоние, но стала задыхаться и потеряла бдительность.
И в то же мгновение министр лягнул ее: костяное копыто глубоко вошло Тихомировой в живот, разворотив там селезенку.
А Капитоныч вскочил в черную «Волгу» и, матеро вырулив, ударил передним буфером Тихомирову в грудь ее.
– Совок ты, Тихомирова, вот ты кто! – проговорил он с ненавистью.
Гилявкина закричала:
– Слева заходи все! Веревками ее обвязывай и сволакивай, чучелу! Не видать ей Булгакова!
Тихомирову обвязали и принялись тащить, чего она не поняла толщиной своего тела: полтора метра на полтора.
Тихомирову стащили в глубокий кювет и крикнули ей сверху:
– Умрешь ты здесь, гадина вонючая!
В кювете нашлась безымянная старуха с тупым камнем в руке.
Она опустила его на голову Тихомировой.
Кровавые мозги ошметками полетели ей в лицо. Она склонилась над черепом и стала лизать дымящееся месиво, утробно повизгивая, когда в зубы попадались ей хрустящие бляшки атеросклероза.
Думать Тихомировой стало нечем, и она умерла.
Безымянная старуха засмеялась над ней, тряся седыми космами, а потом натянула австрийские сапоги, вырвала из рук помертвелых противотанковую сумку железябистую им. старого московского татарина Галяма и, харкая кровью, потащилась в квартиру Тихомировой, предварительно выведя у себя авторучкой на ладони:
ПЕРВА Я СТАЛА ЗА ВЕЩАМИ ЕЕ КАК ТОКО СДОХЛА ОНА ГАДИНА В ОДИН ЧАС ТРИДЦАТЬ МИНУТ
19. Третье зловещее явление гардеробщика Капитоныча
...Уже давненько уехала черная «Волга» с Гилявкиным.
В Кремлевском Дворце съездов уборщица Клещук читала документы и сверху каждой бумаги приписывала свои закорючки.
«Нету средств у страны нашей». «А иде тибе взять-то?» «Ишь, чего захотел! А что же люди наши несметные скажут?!»
В каждый документ она харкала и дописывала:
«Уборщица Клещук смотрела да присматривала».
Наконец, она тоже отправилась спать – важная государственная работа была завершена.
...К утру на пустыре каждая пенсионерка получила по тому Булгакова.
Утолив голод духовный, советские люди крепко задумались о хроническом голоде телесном.
Они поползли к молочному магазину и спрятались за ящиками на подступах к нему.
Вдалеке показалась утренняя машина с молочными продуктами. Свора пенсионеров с тучными авоськами и каталками наперевес бросилась к машине.
Дегтева ударила паренька-шофера поддельной жалобной книгой и стала целовать синюшный труп его, вглядываясь да приговаривая:
– Ой, молодежный какой, словно девица...
Другие пенсионеры бросились к машине, вмиг растащили ее содержимое, исковеркали и спихнули ее в ухаб.
Но не всем хватило: обездоленные огласили округу воплями и рыданиями, а также злым зубовным скрежетом, который производили их молодые челюсти. Скрежет порой перерастал в верещание, в ультразвук; изо рта многих пенсионеров валил дым, а вокруг расползался едкий запах горелой пластмассы.
...Стая поползла дальше.
Небо светлело, старухи всматривались в него стеклянными глазами и думали: «Говорят, что советские пенсионеры злей всего бывают на рассвете, когда выцветают звезды... И правильно говорят: потому что так оно и есть...»
Они остановились у магазина на улице Уссурийской в задумчивости.
В это же примерно время, тяжеловесная стая других старух, хрипя и выкатывая кровью налитые глаза, ползла по улице Уссурийской, к открытию магазина.
Вскоре они встретились перед продуктовым магазином.
И тут раздался истошный голос старика Мосина:
– Ага! Вот и мой час пришел!
Из-за контейнеров выскочила огромная розовая свинья с полыхающим комсомольским значком во лбу.
На ее спине сидел Мосин. Блестела кем-то воткнутая ему в темечко вилка. В правой руке Мосин держал дохлый магический апельсин, а в левой – кусок магтческой селедки. Он мчался на бешеной скорости и вопил:
– Вперед вы все! Чего ждать? Смерти голодной?
Он швырнул апельсин в витрину – раздался оглушительный взрыв. В образовавшуюся брешь вползли многочисленные пенсионеры, хватая ртами и руками клочья воздуха.
Прямо перед ними возник багровый от гнева, кубатуристый сторож.
Тархо-Михайловская дребезжащей когтистой рукой нацелилась на глаз сторожа.
Дегтева выхватила поддельную жалобную книгу, чтобы морально уничтожить сторожа в жалобах, а Терентьева приценилась к сторожу крючкотворством, для чего вырвала из кармана «Уголовный кодекс страны нашей несметной» и угрожающе стала махать перед его отупевшим взглядом.
– А лучше количеством задавим! – закричала хитрая Шохова. – Чтобы никто отдельно за труп его не был в ответе!
– Так и сделаем! – закричали все. – Ух и хитрая ты!
Но в это самое мгновение сторож распахнул полу пиджака, и все ахнули: грудь была совершенно золотая от медалей!
Потом сторож повернулся в профиль, и кое-кто узнал знакомый оскал гардеробщика Капитоныча.
– Идите все вы назад! – громовым и гробовым голосом сказал Капитоныч. – И людям, что идут за вами, скажите, чтобы шли назад. И те пущай другим скажут, чтобы шли назад, а те пусть тем скажут, что через тыши-затыщи лет родятся, чтобы шли назад, а те пусть в космос взлетят и на планету Марс передадут тем, которые там яблоньки посадили, чтобы шли назад... Капитоныч, мол, так велел, такова его воля подспудная!
И он замолчал, а потом для устрашения вырвал из груди медаль одну, ковырнул иголкой череп ближней старухи, прихватил оттуда упругую извилину и вздернул на ней старуху личной профессиональной рукой.
![Харлан Эллисон - Время глаза [Время ока]](/uploads/posts/books/no-image.jpg)