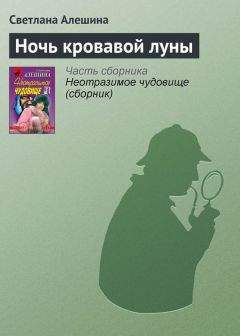Зуфар Гареев - Мультипроза, или Третий гнойниковый период
Тут выскочил откуда-то дурень Мешков с криком:
– Я – он! Он! Лелин!
Он встал, протянув руку, он по-доброму сощурился, глядя на человека с рюкзаком, и являлся теперь как бы человеком с прищуром.
Человек с рюкзаком посадил и Мешкова в рюкзак и Мешков там притих.
На помойке истошно завопил старик Мосин, но радовался он не новым ништякам.
У Мосина появился конкурент и враг. Он стащил у старика шмоток моркови и пустую бутылку.
То был старик Сухарев, пришлый, с соседней помойки. Чужак стоял, притаившись за контейнером: он свирепо поблескивал стеклянным глазом, он клацал железными новехонькими зубами.
Мосин выхватил припрятанную кишку Потекоковой и стал душить ею Сухарева.
Сухарев захрипел, рванулся влево, рванулся вправо, впрыгнул в ручей, что журчал за помойкой, и поплыл.
Но Мосин ударил его веслом по голове, Сухарев стал уходить к рыбам. Не успел он умереть, как его схватил в ленивые объятья сом и стал есть, молча и упорно.
Половину старика Сухарева он съел вместе со слуховым аппаратом и медалью, а другую половину спрятал в подводной дыре.
Старик Сухарев оставшейся половинкой убежал из логова подводного зверя, вновь пробрался во владения старика Мосина.
– Ты опять здесь! – ахнул Мосин.
Сухарев схватил кусок селедки и пустился наутек. Он бежал в два раза быстрее, так как был теперь в два раза легче.
Махнул тогда Мосин рукой и ушел за контейнеры.
17. Убийцы Степанюк орудовали волшебной магией и кирпичами
Любительницы Булгакова, перекликаясь на ночь, хватились Войновой.
– Да ведь она пошла в роддом, очередь занимать! – догадались все.
На каптерке вывесили список, потянулись к роддому и вскоре все стали рожать.
Каждая старуха выходила из роддома со сверточком.
В них были маленькие старушечки, как две капли воды похожие на рожениц. Они быстренько, тут же на глазах, выросли, сбросили пеленки, и каждая, прихватив по авоське – а то и по две – встала рядом с хозяйкой.
Старухи слегка оторопели от количества собственного населения, увеличившегося вдвое.
Двойниковые старухи дерзко толпились в спинах основных старух. Они горячо дышали, проворно работали локтями. Жить стало в два раза теснее, читать Булгакова захотелось всем в два раза сильнее. Основные старухи хмуро теперь поглядывали на свои копии.
– Нарожали вас... – упрекнули они.
– Сами же и виноваты! – зубасто ответили двойниковые старухи. – Нас теперь-то с белого света не сживешь за просто так, вот!
Поартачились основные старухи и поняли, что с сестрами им теперь надо жить дружно, действовать в жизни вместе.
– Идите, убейте Валентину Теремкову вы! – отдала приказ Тархо-Михайловская.
– Есть! – гаркнули двойниковые старухи и тучей поползли к магазину.
Возглавляла отряд двойник по фамилии Ефремова.
Она закричала:
– Платье вы ей порвите-ите! Для чего каблуками вскочите на нее, гадину вонючую – и топчите! Тело ее молодежное избейте вы: кто ящиками, кто кирпичами! Живот разорвите, кишки повынимайте! А в мозг ей гвоздей ржавых позабивайте вы, и каждая по триста раз ей в глаза-то и наплюйте! Ибо бесстыжие они есть у нее!
Так приказала Ефремова, и тут же бросились двойники на Теремкову Валентину.
Свалили с ног ее, белолицу, кудряву да всю наряжену, да всю в импорте, да всю в золоте, да в двойных подбородочках всю.
Стали бить ее ящиками-кирпичами. Живот ей разодрали, печень вытащили всю парящую, а Ефремова самолично есть принялась ее, повизгивая от предчувствия холестерина и тяжелых металлов – олова и ртути.
Ефремова, торопясь и обжигаясь, доела печень и вновь бросила клич:
– Бейте ее вы!
И принялись вновь Валентину Теремкову бить да дубасить, а маленькая Говорушкина скок-поскок вскоре разодрала голову ей – подняла ногу и, хихикнув, прыснула смрадом.
А Ефремова сама подскочила и стала вбивать Теремковой гвозди в мозг.
А потом приказала:
– Тело ее под ящики отнесите и кирпичом забросайте!
Так и сделали пенсионеры.
Но тут на поиски Валентины Теремковой вышла продавщица Степанюк. Она оглядела зловещее подворье и стала говорить:
– Валентина Теремкова, где ты, ай?
– Дорогая! – окликнула ее Учватова, а старик Косоруков будто бы случайным прохожим прошел мимо.
Он закурил папиросу «Беломорканал», что было тайным знаком. С другой стороны Говорушкина крикнула:
– Дорогая!
Степанюк дважды обернулась туда-сюда и потеряла ориентацию на подворье.
Тут из-за ящиков выскочили старухи. Учватова набросила ей веревку на шею и стала валить ее с ног.
Степанюк хрипела, пойдя вся багровыми пятнами.
И крикнула тогда она из последних сил:
– И крикнула тогда я из последних сил!
Учватова вдвоем со сродной сестрой новоявленной свалили Степанюк с ног.
– Сколько ж ты молока выпила по блату, нам недодала! – зарыдала Учватова. – Сколько ж ты творогу унесла и творожной массы «Особой», ослабив наши кости!
– Медленная ты убивица наша! – зарыдала от негодования сродная сестра Учватовой. – Так вот же тебе! – И она влепила пощечину Степанюк.
У Степанюк, перевернутой к небу лицом, не было в горле звуков. Огромные груди ее, опрокинувшись на шею ее, душили в горле ее звуки ее.
Свирепо вращала глазами Степанюк да хрипела.
– А яиц сколько съела ты, подлость ходячая! Сколько людей вы народных погубили в голоде! – страшно зарыдала сродная сестра Учватовой, зыркнув глазом в небо и почуяв приближение луны.
Учватова пальцами в золоте и бриллиантах стала душить ее насмерть.
Степанюк, набравшись сил, крикнула глухо:
– Ой, душно мне, золотой!
И умерла: глаза ее застекленели.
– Щеки – словно яблоки налитые, – с завистью проговорила Учватова, вглядываясь в тайну смерти и жизни Степанюк.
– И пухлинка в губах... – сказала сродная сестра ее.
– А пумпушечки! – воскликнул Косоруков ласково. – Вся мягонькая такая, тепленькая, словно хлебушек с молочком да с маслицай...
Он пошарил у Степанюк в карманах, стал вытаскивать крутобокие пачки творога, пухлые пачки сметаны.
– Ах ты, мать честная! – застонали пенсионеры и стали хватать да прятать в карманы.
– Труп бы надо спрятать! – цинично, сквозь зубы проговорил Косоруков.
В руках у него блеснул под красной кровавой луной шелк преступной веревки:
– Уходить надо. Не ровен час, участковый пойдет: застукает, как пить дать...
Он запихнул молчаливую Степанюк в контейнер, привалил ее обломком бетона, и все трусцой побежали прочь.
Напоследок Косоруков встал в профиль, и все увидели знакомый матерый оскал Капитоныча; все услышали знакомое позвякиванье под полой пиджака.
...Через некоторое время, не убиенная до конца Степанюк выползла из контейнера и покатилась снова в магазин. Она встала за прилавок, выставила привычную пожухлую картонку:
НИЧИГО НЕТ И НИ БУДИТ ВАМ
В ТЕЧЕНЬИ ДНЯ И МЕСЯЦЕВ ДОЛГИХ.
СТЕПАНЮК ДОРОГАЯ, АЙ.
18. Свиное копыто не знает пощады
Между тем за полночь стали завозить в каптерку драгоценную книгу Булгакова, люди стали выползать из своих щелей и формироваться в живейшую очередь.
Гилявкина хотела обойти Тихомирову, для чего стала ее пихать, но Тихомирова сказала:
– Нет, не сковырнешь ты меня отседов!
Но вдруг черная мохнатая лапа высунулась из-за спины Гилявкиной и стала отпихивать Тихомирову.
Тихомирова крутанула блатной палец на излом, рука застонала и убралась.
Гилявкина, злобствуя, повернулась лицом к Кремлевскому Дворцу съездов.
И в то же мгновение перед ней появился Капитоныч. Он шепнул:
– Есть наемный у меня человек в высшем эшелоне общества... Дай-ка мне быстро в благодарность ты печень трески...
Гилявкина сунула Капитонычу презентик, и Капитоныч подумал: «Напишу-ка я тебе, Клещук ты моя, писмецо жалобливое».
И он стал писать, зловеще поигрывая мускулом землистого предынфарктного лица:
Записка была такая: «В направлении Кремлевского Дворца съездов. Заявление. Клешук, дай мне министра утренних дел. Пришлю тебе с запиской сей Идрисову. Ей верь, – за нее двенадцать копеек плачено и полпачкой творога. К сему Капитоныч твой дорогой и мафия наша К-12».
Он подозвал Идрисову, дал ей презентиком блестяшку от поломанного своего зонтика импортного и окурочек «Кэмла».
Идрисова поехала в направлении Кремлевского Дворца съездов.
На пропускном пункте она солдату ручку погладила и говорит:
– Ой порнушечку да чернушечку впарю я тебе, паренечек...
И показала цветную фотографию из «Огонька», подписанную так: «Н. Мордюкова и Ю. Гагарин на сочинском пляже».
![Харлан Эллисон - Время глаза [Время ока]](/uploads/posts/books/no-image.jpg)