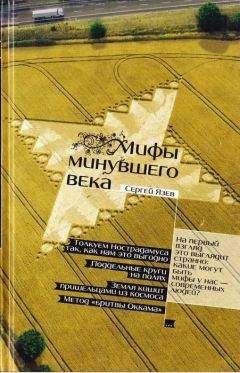Андрей Синицын - Новые мифы мегаполиса (Антология)
— Нам туда.
Таракан потянул Андрея в сторону железнодорожного полотна. За переездом начинался хилый пыльный лесок. Против ожидания, в нем было достаточно светло — луна взошла, что ли. Временами спотыкаясь, они пересекли лесополосу и вышли на пустырь — неровный, покрытый какими-то кочками. Через долгие несколько минут до Андрея дошло, что это могилы.
— Так это же кладбище! — Он остановился.
Таракан остановился тоже, снова полез за сигаретами, закурил. Андрей молча взял у Таракана пачку, вытряс себе сигарету.
— Возьми. — Таракан протягивал ему фонарик. — Я тебя тут подожду. Что-то расхотелось мне… Я это уже видел.
Андрей затянулся, бросил сигарету, включил фонарик, поймал ближайшую могильную плиту в круг белого дрожащего света.
«Джер» — было там. И даты жизни.
Сердце Андрея ударило в последний раз и замолчало. Он понял, что увидит на следующей могиле. И на следующей.
Медленно, водя фонариком влево и вправо, словно отдавая салют, он пошел по утоптанной тропинке между рядами могил. На одних могилах были каменные плиты, на других металлические, на третьих временные дощатые таблички, но «Джер» — значилось справа, и «Джер» — слева, только даты рождения были проставлены разные, и даты смерти отличались, а год везде был нынешний — видно, Таракан привел его в свежую часть кладбища. Мысли Андрея смешались, чувства замерли, и он все шел и шел вперед, а потом свернул наугад, это было все равно, потому что со всех сторон лежали джеры — те, кто был кем-то другим, но стал Джером и умер как Джер… Фонарик стал светить слабее, а потом мигнул и погас, тогда Андрей остановился и опустился на колени — почему-то это показалось ему уместным.
Он подумал, что Сью будет скоро лежать здесь, и на плите будет написано «Джер». И Таракан скоро будет лежать здесь под той же надписью. И он сам скоро будет…
На этом мысли кончились.
Ущербная луна освещала живого человека среди мертвых джеров.
Человек плакал.
Джер-четвертый
Он стоял на балконе и смотрел туда, где должно было взойти поддельное солнце.
Небо было нежно-жемчужным, чуть перламутровым, таким девственным, таким готовым принять свет и цвет, пропитаться им, засиять чистыми красками, что у Джера наворачивались слезы на глаза. Скажи ему кто, что этот цвет называется «серый», он бы не понял.
Мир был невозможно, почти нестерпимо прекрасен.
Вот легкие тени облачков, еще мгновение назад бывшие одного цвета с фоном, обрели нежнейший розовый оттенок и засветились изнутри. И тотчас бледно-алый тон, первый намек на рождение зари, подкрасил небо на востоке.
И все это было зря.
Джер опустил взгляд на свои руки, лежащие на перилах балкона бессильно и безвольно. В сплетенных, онемевших от бездвижности пальцах неуклюже торчал сухой цветок.
Мертвая роза.
Он сразу увидел ее, хотя ваза с цветком стояла на шкафу да еще была задвинута поглубже, к стенке. Ссохшаяся головка цветка чуть склонилась вниз, будто соглашаясь с неизбежностью. Почерневшие лепестки сохранили изысканную четкость линий.
Джер встал на стул, снял розу со шкафа. Укололся о шип, но не сильно, и высохший шип обломился под пальцем. Траурно зашуршали сухие листья.
Он смотрел на мумию цветка и видел, какой была эта роза прежде, представлял ее свежие, упругие, бархатные лепестки. Джер не думал словами, но, будучи облечена в слова, его мысль звучала бы так: «Она была красивой — а значит, не должна была умереть. Но она умерла».
С бессмысленной лаской трогая шипы мертвой розы, он вышел на балкон.
В мир, где красота умирает — и, следовательно, умирает всё.
В мир смерти.
Мир ждал восхода солнца, мир замер, готовясь встретить дневное светило. Но если под солнцем возможна смерть — это ненастоящее солнце.
И если красота мимолетна и смертна — красота ли это на самом деле?
И что мертвым до красоты?
— Все умрут? — сказал Джер вслух.
Получилось так, будто он спрашивает; будто он еще надеется на какой-то другой ответ — вот придет кто-то сильный и старший и утешит: «Нет, малыш. Ну что ты? Совсем нет».
— Совсем да, — ответил себе Джер.
Все умрут. А это всё равно что уже умерли.
Он больше не смотрел на небо, где расцветал всеми красками рассвет. Лишь мельком отметил, что громче защебетали, запели птицы. Мертвые птицы, еще не знающие о своей смерти. Джер отломил сухой лепесток, растер в пальцах. Поднес розу к лицу — она пахла слабо и приятно, тенью того запаха, который источала при жизни.
— Все умерли, — сказал Джер, и ему вдруг стало легко.
Он оторвал еще один лепесток, другой, третий. Сломал стебель. Протянул руку, разжал пальцы и уронил остатки розы вниз.
Если этот мир — мир смерти, то единственная истинная красота в нем — это красота смерти, так?
Джер снова не подумал словами. Просто вернулся в комнату, вытащил стопку белых листов и только один мелок — черный, и принялся за работу.
Он рисовал улицы города, полные суетливой, фальшивой жизни, над которыми в вечном зените стояла МЕРТВАЯ РОЗА. Рисовал лицо странно знакомой, хоть никогда не виденной им женщины в обрамлении черных сухих лепестков. Рисовал многоликую ложь жизни — и проступающую сквозь нее единую правду смерти.
Кто-то положил руку ему на плечо. Джер вздрогнул, обернулся.
Мужчин было двое.
Джер сразу понял, что они принесли весть от умершего.
— Ну вот, ёмть, — медленно сказал тот, что крупнее и выше, темноволосый. — Ты, Андрюха, это…
Второй, белобрысый и бледный, суетливо достал из большой сумки бутылку водки, из кармана куртки — три пластиковых стаканчика.
— Таракан умер, — морщась от неловкости, сказал он. — Ну, ты знаешь, наверное, вы же с ним…
Он уронил стаканчик, с сопением полез под стол.
— На кухне, — сказал Джер. — Стаканы там возьми, понял?
Раньше ему было трудно с людьми, потому что он не понимал их. Теперь он понял про них самое главное — и стало легко. Это только с живыми людьми сложности, а с мертвыми — ничего, нормально. Раньше он всегда мучился, как сказать, чтобы донести смысл. А теперь оказалось, что слова — не более чем утилитарные звуки, удобные в быту и невкусные, как вода из водопровода.
— Так, — припечатал темноволосый, разглядывая последний рисунок Джера поверх его плеча. — Значит, так оно вот.
— Как он умер-то? — спросил Джер, потому что спросилось.
— С моста он прыгнул, — сглотнув, ответил вернувшийся из кухни белобрысый. — Ну, с этого, знаешь… Короче, над шоссе. Разбился сначала, а потом уж его машиной…
— Помолчи, Игорек, — хмуро велел первый. — Выпьем.
Выпили. Белобрысый Игорек сморщился, темноволосый длинно выдохнул, а Джер — так просто, выпил и выпил. Ему хотелось вернуться к рисункам, но он чувствовал, что — еще не всё.
Игорек полез по карманам, выругался, спросил:
— Пит, ты не видел, где я сигареты оставил?
Молчаливый Пит махнул рукой — типа, отвали.
— Андрей, у тебя нету? — не унимался Игорь.
— В куртке глянь, — легко сказал Джер. — В коридоре.
Белобрысый ушел шуршать и спотыкаться в коридор.
— Ты, значит, тоже, — с непонятным выражением сказал Пит, разглядывая мертвую розу на верхнем из листов.
— Да, — согласился Джер.
— Ну, твоя жизнь, — сумрачно сказал Пит. — Держи вот. Толик тебе оставил.
Он протянул Джеру конверт. Джер взял.
— Игорь сумку забыл, — сказал он.
— Сумка тоже тебе, — еще больше нахмурился Пит. — Там баллончики эти. Которыми вы стены пачкаете. Толик в записке… Короче, тебе пригодятся. Наверное.
— Да, — кивнул Джер.
— Ну — прощай тогда, — тяжело сказал Пит.
— Прощай, — улыбнулся Джер.
Андрей перевернул фотографии. С оборота они были подписаны лохматым яростным почерком Таракана, в котором каждая буква, казалось, спорила с соседней, отличаясь от нее наклоном, величиной, жирностью линий.
«Ger alive», — было выведено на одной.
«Так выглядит бессмертие», — гласила другая надпись.
«Я с вами», — была подписана третья.
«Джернутые умрут — Джер пребудет вечно», — значилось на четвертой.
Дальше Андрей читать не стал.
На всех фотографиях было кладбище Джера. То самое, куда Таракан привозил Андрея.
— Бес-смер-тие, — сказал Андрей вслух, словно пробуя слово на вкус. Оно неприятно зашелестело на губах. Змеиное было слово. Или насекомое. Но не человеческое точно.
Вот, значит, что хотел ему сказать Таракан… И сказал. Только начал здесь, а договорил уже оттуда, с той стороны.
С той стороны джера.
Андрей откинулся на спинку стула. Он чувствовал одновременно слабость и решимость. Может быть, просто впервые в жизни он был свободным, ничто его не сковывало, не держало… и не поддерживало. Он встал, пошел в кладовку, взял ломик, большую стамеску и молоток, бросил на дно своей самой вместительной сумки. Андрею казалось, что он движется в среде, отличной от воздуха, которая становилась то плотнее, то разреженнее. И еще все предметы имели неожиданный вес — непредсказуемо, больший или меньший, но не такой, как обычно. А может, просто мир вокруг Андрея стал неустойчив и менял характеристики. Всё могло случиться. Абсолютно всё.