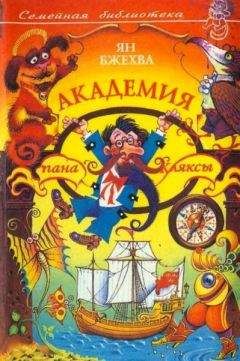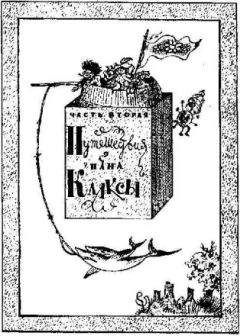Сватоплук Чех - Путешествия пана Броучека
Ватага художников с мухоморами, боровиками, опятами, рыжиками, сыроежками, сморчками, шампиньонами и прочими грибами на головах бросилась за ним вдогонку, намереваясь затащить в свои мастерские, но пан домовладелец счастливо от них улизнул и помчался к лестнице, ведущей из Храма искусств.
О горе! Внизу, у подножия лестницы, мелькнули трепещущие мотыльковые крылья, и под лазурным колокольчиком пан Броучек узнал миловидное лицо Эфирии.
В отчаянии он юркнул в ближайший коридор; адский рев и грохот указывали на то, что он попал и луч музыкантов.
XI
Концертный зал. Достойный похвалы обычай на лунных концертах. Пан Броучек помышляет о самоубийстве. Поэт низшего разряда. Лунная музыка. Неземное устройство ушей у селенитов. «Буря». Морская болезнь. Пан Броучек снова обращается в бегство.
Наш герой шмыгнул в первую полуоткрытую дверь и мигом захлопнул ее за собой.
Он сообразил, что попал в партер концертного зала, уже заполненного многочисленными слушателями.
С маху плюхнулся пан Броучек на единственное свободное место в последнем ряду.
К нему тотчас подошел селенит в умопомрачительной ливрее и протянул правую руку.
«Билетер! — подумал пан Броучек. — Не иначе как требует платы за вход…» Никчемные бумажные деньги Броучек во время скачки по воздуху выбросил со злости вслед за часами. Поэтому он вынул из кармана оставшийся серебряный талер и протянул его билетеру.
Тот взял монету в левую руку и, качая головой, принялся разглядывать.
— Что, никак и серебро на Луне не в ходу? Или я мало дал? — спросил землянин.
— Вход на все наши концерты свободный, — ответил селенит, — более того, мы сами платим каждому посетителю определенную сумму.
И он вложил в ладонв пану домовладельцу золотую монету, которую держал в протянутой правой руке.
Он намеревался также вернуть серебряный талер, но пан Броучек махнул рукой: — Это вам на чай… на память! — последние слова наш герой произнес с умилением в голосе.
«Зачем мне деньги, коли здесь на них не купишь ничего, абсолютно ничего, что могло бы утолить мой голод!» — вздыхал пан Броучек. Сообщение о том, что луняне питаются лишь ароматами и росой, ввергло его в пропасть безысходного отчаяния. Страшное известие занимало теперь все его мысли. Он даже не обратил толком внимания на прекрасное новшество селенитов и не предался размышлениям о том, не стоит ли и на Земле ввести для посетителей концертов вознаграждение дукатами.
С ужасом думал он о неотвратимо надвигающейся смерти. «На корешках алтея да лакричника я не продержусь… — сетовал он небесам. — А чем пить росу, так уж лучше броситься вниз головой в один из лунных кратеров!» От этих мрачных мыслей его отвлек сосед, весьма жалкий с виду лунянин.
— Должно быть, ты и есть тот самый пришелец с диковинной Земли, которым перед каждым встречным похваляется Чароблистателъньтй? — сказал он. — По твоему лицу незаметно, чтобы тебе очень нравилось на Луне. Да, порядки у нас скверные, ни к черту не пь дятся, хоть плачь. Все насквозь прогнило, все шиворот-навыворот. Взять, к примеру, литературу… Я поэт…
Вероятно, это был пророк низшего разряда, так как вместо роскошной ризы или мантии на нем был всего лишь потрепанный балахон.
— …я поэт, и никто лучше меня не обрисует тебе ужасающее состояние нашей литературы. Словесность наша-самая убогая во всей вселенной. Сплошной детский лепет да смехотворная наивность. На вершине нашего Парнаса ковыляют калеки и недоноски. Впрочем, и на Луне найдется несколько истинных талантов, — поэт вскинул голову, — талантов, которым все эти восхваляемые ничтожной критикой «великаны духа» недостойны даже завязывать ремешки на сандалиях! Но именно их-то и оттесняют, замалчивают, топчут, губят физически и морально. Не для них прибыльные синекуры и теплые местечки вроде Храма неискусств нашего мецената, этой продувной бестии…
«Вот уж действительно продувная бестия! Подает на стол одни цветы, сиди и нюхай! — с горечью согласился про себя пан Броучек. — Этак и я мог бы меценатствовать!»
— …этой продувной бестии, мецената, — продолжал селенит, — который благоволит всякой шушере, лишь бы ему льстили, да воскуряли фимиам, да плясали под его дудку. Ни один уважающий себя талант не пойдет на такое унижение. Распрекрасному меценату, видимо, это известно, и потому таким поэтам, как, например, я, он даже ле предлагает своей помощи! Впрочем, меценатский ореол обходится ему чертовски дешево. Однажды он пригласил меня к столу, и ты знаешь, что нас ожидало? Немного занюханных фиалок и наперсток перестоялой росы.
Пан Броучек только тряхнул головой, обреченно хохотнув.
— Имея представление о здешних порядках ты, землянин, поймешь, почему я ничего больше не пишу и почему намерен навсегда повесить свою лиру на стену. Я наверняка заделаюсь критиком. И уж тогда-то покажу этим чванливым ничтожествам! Читать их мне не понадобится, у нас вполне достаточно, если критик мельком взглянет на титульный лист. Ты знаешь, я принципиально не читаю наших поэтов — зачем тратить время попусту?! Лучше уж сходить на концерт — разумеется, ради этого несчастного дуката, который платят за посещение… — заключил пессимист с горькой усмешкой.
Ему пришлось умолкнуть, так как музыканты начали настраивать свои инструменты и уже одними этими подготовительными манипуляциями произвели такой шум, что невозможно было разобрать ни слова.
Лишь крикнув в самое ухо, сосед смог оповестить пана Броучека, что в программе — потрясающее сочинение знаменитого Арфабора Громового под названием «Буря».
Пан Броучек принялся разглядывать музыкантов и певцов, которые толпились на просторных подмостках в глубине зала. Он не знал, чему дивиться больше: необычайному ли виду музыкальных инструментов контрабасов, грифы которых, украшенные богатой резьбой, напоминали замысловатые бушприты дикарских челнов; арф, похожих на апокалипсических страшилищ; огромных валторн в виде свернувшихся кольцами удавов с разинутой пастью и проч., - или фантастическим нарядам лунных концертантов, или же, наконец, их невероятной подвижности и гибкости.
Это было скорее балетно-акробатическое представление монстров, нежели симфонический концерт. Дирижер задавал такт не только головой и руками, но и ногами, и всем туловищем; флейтисты тянулись к своим флейтам так, будто шеи у них были резиновые; пианисты играли столь бравурно, что нередко их руки оказывались на педалях, а ноги отплясывали по клавишам; скрипачи, как одержимые, пилили смычками и дергали головой, при этом их длинные волосы и растрепанные бороды мотались из стороны в сторону; певцы и певицы тоже трясли головами, выгибали шеи, ввивались наподобие танцующих змей, корчились в жутких конвульсиях, невообразимо гримасничали и вращали белками. Словом, это был искрометный цирковой номер, от которого в глазах рябило.
Что уж говорить об ушах слушателей! «Буря» разыгралась и казалось, конца не будет грохоту, треску, визгу, уханью, звону, лязгу; поднялся неописуемый тарарам, временами такой оглушительный, что пан Броучек затыкал уши. У него родилось предположение: видимо, слуховой аппарат у селенитов устроен совершенно иначе, чем у землян! Публика не только спокойно сносила эту адскую какофонию — она внимала ей с таким видом, будто слушает пение ангельских хоров. Пан Броучек видел вокруг себя восторженные лица и слезы блаженства, но тщетно силился в реве и грохоте уловить хоть намек на благозвучную мелодию. Напротив, все, казалось, было рассчитано на то, чтобы истязать слух и мертвить душу чудовищной скукой. То была сплошная звуковая пустыня, бесконечная, утомительно однообразная, без единого зеленого оазиса.
«Если ангелы на небе исполняют такие же симфонии, — вздохнул пан Броучек, — то уж лучше жариться в самой глубине пекла!» Из-за этой «Бури» у него начался приступ морской болезни. Он отчаянно вертелся, проклиная композитора и его нудное сочинение, а на него все обрушивались и обрушивались монотонные валы оглушительного потопа…
Нет, не в силах, не в силах он больше этого выносить!.. И Броучек, будто спасаясь от чертей, бросился вон из концертного зала.
XII
Опять Эфирия. Последний сонет. Побег пана Броучека из Храма искусств. Лети, Пегас! Пойманная бабочка. Умопомрачительная скачка в мировом пространстве. Метеор. Падение. Пан Броучек снова на Земле.
Зажав уши, пан Броучек мчался к лестнице, но внезапно руки его повисли плетьми, а ноги точно пригвоздило к полу.
Прямо перед собой он узрел Эфирию, которая, видимо, проведав, что он находится в Храме искусств, терпеливо караулила его у единственного выхода из вестибюля.