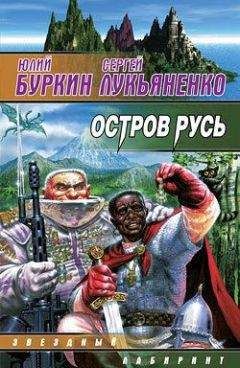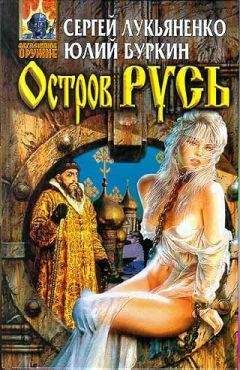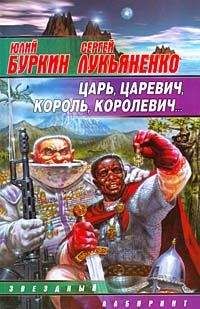Сергей Лукьяненко - Остров Русь
— Ну, хочешь, я ширинку расстегну? Посмеешься.
— Не-е-т, — замотала головой Несмеяна, — мне у тебя не смешно-о-о.
Владимир вздохнул, посмотрел вслед полоненому Ивану и печально сказал:
— Однако, каких людей теряем! Лучших людей...
Сидел за решеткой в темнице сырой, страдая с похмелья, дурак молодой. Ох и муторно же ему было! Друзей не спас, а еще хуже подставил. Сам в немилость попал. Царевну обидел, князя оскорбил. Опохмелиться нечем.
— Эй, дурак, передача тебе, — маленькое окошечко в железной двери камеры открылось, и разукрашенный синяками стражник протянул Ивану бутыль и огромный каравай. — Девка твоя, Марья-искусница, передала. Я отпил пару глоточков, ты уж не серчай.
Иван посмотрел на бутыль.
— Глоточки-то у тебя богатырские. Как глотнешь — четвертушечка, присосешься — поллитровочка... Что, у меня и прав никаких нет?
— Как нет? Есть. Чай, у нас Русь, а не дикая страна половецкая. Есть у тебя право сохранять постное лицо, есть право кричать благим матом, есть право на один звонок.
— Насчет лица и насчет мата я понял. А вот насчет звонка...
Стражник молча просунул в окошечко коровий колокольчик. Иван в сердцах плюнул, но правом воспользовался. Полегчало. Сел в углу темницы на чугунную богатырскую парашу и откупорил бутыль. После нескольких глотков почувствовал, что сил прибавилось, а в голове просветлело.
— Ох, Марьюшка, ох, уважила, — нежно прошептал он, лаская бутыль. — И закусочку не забыла...
Он разломил каравай и с удивлением уставился на выпавшую оттуда грамотку.
— Неспроста, — прошептал дурак. — Или спроста? Хорошо, что я азбуке обучен.
Развернув бересту, Иван прочел:
«Миленочек! Сразу два горя у меня. Дядька Черномор в ванне утонул, а тебя пес В. в тюрьму засадил. Первому горю не помочь, а со вторым справимся.
В караване спрятаны вещи хитромудрые, что бежать тебе помогут. Во-первах — пилка-самопилка, во-вторых — лесенка-чудесенка, а в третьих — лом-самолом. И еще — кепка-невидимка. Дружок твой, Емеля, с ейной помощью гнева княжеского избег, у меня под кроватью спрятался. Друг твой — такой затейник, за тебя горой стоит.
Да учти, милый, вещам мудреным надо в стихах приказывать, иначе не понимают. Ты уж постарайся. Как убежишь, приходи ко мне. Твоя М.»
Заинтригованный Иван растребушил каравай и нашел: маленькую пилку, вроде тех, какими модницы ноготки полируют, изящный медный ломик в кожаном чехле и маленькую бамбуковую лесенку. Кепку-невидимку, как не искал, найти не смог. Видать уж больно невидима была.
Бережно подобрав и съев все хлебные крошки, не от голода, а от высоких моральных устоев, Иван задумался. Как же пустить в дело хитрую снасть. И как ей приказывать?
Но не зря Иван-дурак с боянами общался. Смекнул, что любой дурак может сладко петь, коль нужда заставит. Откашлявшись, Иван приказал:
Ну-ка, пилка-самопилка,
Что моя прислала милка!
Пилка встрепенулась.
Из неволи выручай,
Дырку быстро проточай!
Презрительно фыркнув, пилка улеглась на место. Видать, не те слова дурак сказал. Но Иван не сдавался:
Пилка, встань передо мной
Словно лист перед травой!
Встала.
Проточи-ка стену, пилка,
Чтоб остались лишь опилки!
Пилка метнулась к стене темницы и с визгом принялась ее распиливать. Летело каменное крошево, дурак на радостях бил в ладоши. Наконец, в стене образовалась порядочная дыра, в которую Иван и протиснулся.
— Ну, хорошо, — озадаченно сказал он, оглядевшись. — И что же я буду делать в соседней камере?
Иван действительно попал в соседнюю камеру. Темно в ней было, хоть глаз выколи. Ох, точнее надо было указывать пилке задание! А она, тем временем, не унималась, а все точила и точила камень. Видать, пока все не разгрызет, как приказано, в опилки, не остановится.
— Дурак я, дурак... — простонал Иван.
— Иванушка! — прогремел троекратный вопль, и из темных углов бросились к нему друзья — Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алеша Попович! Они-то и сидели в соседней камере!
С ног до головы в цепях тяжелых, богатыри радостно били Ивана оковами по голове, а Добрыня приговаривал:
— Не чаяли и увидеть снова! Уважил стариков, уважил!.. Ослобонил! Ах ты ж соколик наш! Спаситель!
Когда первая радость утихла, вновь встретившиеся друзья отхлебнули из марьиной бутыли, и Илья грустно сказал:
— Эх, коли б не цепи чугунные, не удержали б нас стены каменные! Разнес бы я тюрьму по кирпичику, раскидал бы стражничков по Киеву! А собаке князю — морду набил!
— Морды будем позже бить, — успокоил его Иван. Достал лом и повелел:
Эх, лом-самолом,
Сотвори крутой облом!
Сбей с дружков оковы на пол,
Так, чтоб пот с них не закапал!
— А при чем тут пот? — удивился Попович, пока лом-самолом освобождал их от цепей.
— Для рифмы, — туманно объяснил Иван.
Лом-самолом тем временем выполнил работу и с мягким звоном переломился пополам.
— Одноразовый, — догадался Алеша. — Ничего, все равно неплохо.
Илья Муромец подошел к двери и заорал:
— Охохонюшки!
Одним могучим пинком он вышиб дверь с петель. По коридору забегали испуганные стражники. Друзья гордо вышли из темницы и в замешательстве остановились. Темницу-то, оказывается, опоясывала стена чугунная, во сто сажень вышиной, колючкою железной окутанная,
— Ломать не буду, — заупрямился Илья. — все пальцы заножу.
— Друзья! Я знаю тайный ход! — воскликнул Добрыня и откинул чугунную крышку, закрывающую глубокую яму.
— Ну и амбре, — брезгливо заметил чистоплюй Попович.
— Естественно. Заморское изобретение, канализация. Сюда параши выливают, и отсюда по подземному ходу все течет в Днепр. Спускаемся!
— Как? — дельно заметил Илья. — Прыгать-то высоко, расшибемся,
Гордый дурак достал из-за пазухи лесенку-чудесенку и скомандовал:
Эй, волшебное творенье,
Гордость стольных городов,
Ну-ка, всем на удивленье
Нас спусти до дна иль днов!
Лесенка мгновенно вытянулась вниз и приятным девичьим голосом произнесла:
Заплати-ка пятачок,
Вмиг поедешь, дурачок!
— Чего?! — завопили богатыри, хватаясь за булавы.
— Хочу — шучу, — отбрехалась лесенка. — Не боись — становись!
Друзья встали на перекладины, и те быстро поехали вниз. Добрыня напряженно поморщил лоб, а потом спросил:
— Слушай, а не могли бы мы с этой лесенкой просто на стену взобраться?
Покрасневший дурак соврал:
— Не могли... Я высоты боюсь.
Речь его прервало погружение. Когда богатыри вынырнули и отплевались, Илья укоризненно сказал:
— Что ж ты про дно-то упомянул?! Нам бы и на поверхности дерьма хватило!
— Ничего, — храбрился Иван. — Нам бы только канал, что к Днепру ведет, найти...
— Ищем! — приказал всем Добрыня. И работа закипела
...У днепровского берега, на окраине Киева, там, где бабы белье полощут, а девки по весне голыми купаются, вода забурлила, и на поверхности показались четыре изрядно перемазанных головушки.
— Халтурщики! — ругался Иван-дурак. — Это ж надо — полдороги до Днепра самим прокапывать пришлось! Ох, пожалуюсь князю...
Однако, вспомнив, что князь им теперь — не защита, Иван замолчал, закручинившись. Добрыня, оттираясь, ласково похлопал его по плечу:
— Ничего, Иван! Русь велика! Схоронимся от пса смердячего. Вот отмоемся маленько и...
— К Марье-искуснице, — докончил Иван.
— Точно! — оживился Алеша. — Дело говоришь. Потри-ка спинку.
Глава седьмая, в которой речь идет о полчищах несметных и свадьбе скорой
Попарившись в марьюшкиной баньке, похлебав кваску и зажевав на скорую руку лебедь белую, три богатыря да Иван-дурак отдыхали на лавках дубовых. Вокруг них суетился Емеля. Стряхивал пыль с булав, отирал пот со лба Ильи и поминутно спрашивал:
— Так ты говоришь, тут она и рассмеялась?
Дурак кивал.
— Эх, знать бы раньше, штаны бы скинул. Пусть ухохочется, — сокрушался Емеля. — Эх... Что делать-то будем, братья-богатыри? Бунтовать?
Богатыри презрительно посмотрели на Емелю, но все же снизошли до ответа.
— Негоже русским богатырям Киев-град разорять, — степенно молвил Илья.
— Лучше схоронимся, — обронил Добрыня.
— Тем более, что и по шеям надавать могут, — добавил Алеша. — Вставай, Иван! Пора. Прощайся с Марьюшкой. — И добавил, ухмыльнувшись: — Я-то теперича вроде как и не знаком с ней вовсе...
Пропустив последнее мимо ушей, Иван прошел в Марьюшкину горницу. Искусница сидела у окна и, близоруко щурясь, вставляла нитку в иголку. Рядом лежал прохудившийся сарафан.
— Марья, давай попрощаемся трогательно, — застенчиво сказал дурак.
— Трогательно нельзя, неприлично, — вздохнула Марья. — Черномор еще и обсохнуть-то не успел после утопления, а ты уже руки распускаешь... Иди, я тебя без троганий приголублю...