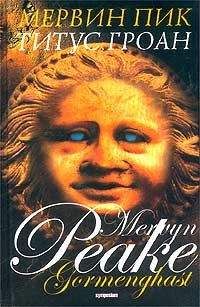Мервин Пик - Титус Гроан
Кора с Кларис мгновенно оказались по бокам от него. Лица их не выражали ничего вообще. Все, что можно было обнаружить на них, принадлежало анатомии и только ей. Троны смотрели на Тетушек, тетушки смотрели на троны.
— Я не имею сомнений по части выбора вашего, ибо ничего подобного в истории золотых престолов доселе видано не было. Выбирайте, ваши светлости — выбирайте! — сказал Стирпайк.
Кора с Кларис одновременно ткнули пальцами в самый большой из трех тронов. Он и на листе-то уместился с трудом.
— О, как вы правы! — вскричал Стирпайк. — Как же вы правы! Да, это единственно верный выбор. Завтра я повидаюсь с мастером и извещу его о вашем решении.
— Хочу, чтобы мой был готов поскорее, — сказала Кларис.
— Я тоже, — сказала Кора, — как можно скорее.
— Я полагал, что все уже объяснил вам, — сказал Стирпайк, беря их под локотки и устанавливая перед собой, — я полагал, что объяснил вам — троны из кованного золота так вдруг не делаются. Над ними работает мастер, художник. Разве вам хочется, чтобы величие ваше пало жертвою пары кустарных, нелепых сидений ярко-желтого цвета? Разве хотите вы снова стать посмешищем Замка — и лишь потому, что вам не достало терпения? Или вам нужно, чтобы Гертруда и все остальные взирали на вас снизу вверх, разинув рты и завидуя, когда вы воссядете, возвысясь над всеми, точно порфироносные королевы, коими вы безусловно являетесь?.. У вас все непременно должно быть самого лучшего качества. Вы поручили мне возвысить вас до положения, каковое причитается вам по праву. Так предоставьте же все мне. Когда придет час, мы нанесем решающий удар. Пока же пусть покои ваши остаются для Горменгаста как бы невидимыми.
— Да, — сказала Кора. — Я тоже так думаю. Они должны быть невиданными. Наши покои.
— Да, — сказала Кларис. — Потому что мы сами такие. Покои должны быть такими, как мы.
Она умолкла, но рта не закрыла, казалось, нижняя ее челюсть вдруг умерла.
— Потому что кроме нас тут и нет никаких достойных людей. И об этом никто забывать не должен, верно, Кора?
— Никто, — согласилась Кора. — Ни один человек.
— Вот именно, — подхватил Стирпайк, — и первейший долг ваш состоит в том, чтобы обновить Горницу Корней.
И он вперился в них настоятельным взглядом.
— Корни необходимо подкрасить. Даже самый малый из них, потому что в Горменгасте нет больше комнаты, столь удивительно заполненной корнями. Вашими корнями. Корнями вашего дерева.
К удивлению юноши, Двойняшки его не слушали. Они стояли перед ним, и каждая держала другую за долгие, круглые, точно бочонки, бока.
— Это он нас заставил, — повторяли они. — Он заставил нас сжечь книги нашего дорогого Сепулькгравия. Нашего дорогого Сепулькгравия книги.
«В полусвете»
В это самое время Граф с Фуксией сидели на двести футов ниже и на милю в стороне от Тетушек и Стирпайка. Его светлость, прислонившись спиною к сосне и подтянув к подбородку колени, смотрел на дочь с нехорошей улыбкой на изысканно очерченных губах. Ступни Графа покрывали обсыпавшие их со всех сторон холодным, темным, ровным слоем сосновые иглы, кое-где перемежавшиеся увядшей веточкой папоротника или тускловатым грибом, на пепельной шляпке которого уже проступил зимний пот.
Подобие мерцающей мглы наполняло лощину. Небонепроницаемый полог накрыл ее, полог ветвей, переплетенных столь плотно, что даже густейший ливень не в состоянии был пробиться сквозь них, отчего размеренное кап… кап… кап… задержанного ветвями дождя орошало игольный ковер лишь через несколько часов после начала самой сильной грозы. И все же некоторое количество отраженного дневного света проникало и в эту прогалину — главным образом с востока, оттуда, где возвышался голый остов библиотеки. Купа деревьев, стоящих между прогалиной и тропой, что вилась вдоль руин, была не менее плотной, но в глубину имела не больше тридцати-сорока ярдов.
— Сколько полок уже построила ты для отца? — спросил Граф, мертвенно улыбнувшись дочери.
— Семь полок, отец, — ответила Фуксия. Глаза ее были широко раскрыты, руки, свисавшие по сторонам тела, подрагивали.
— Еще три полки, дочь моя, — еще три полки и мы сможем снова расставить книги.
— Да, отец.
Подняв короткую ветку, Фуксия прочертила в иглах три длинных линии, добавив их к семи, уже отделявшим ее от отца.
— Вот так, вот так, — прозвучал меланхолический голос. — Теперь у нас найдется место для сонийских поэтов. А книги ты приготовила, доченька?
Фуксия, не отрывая глаз от отца, резко вскинула голову. Никогда еще не говорил он с нею так — никогда не слышала она в его голосе этих любовных нот. Несмотря на зябкую дрожь, вызываемую в ней его растущим безумием, девочку наполняло сострадание, которого она тоже никогда прежде не знала, но теперь к нему добавилось нечто новое — внезапно вырвавшийся на волю прилив любви к этой согбенной фигуре с покойно лежащими на коленях длинными белыми пальцами, с голосом столь задумчивым и тихим.
— Да, отец, я приготовила книги, — ответила она, — хочешь, я их расставлю по полкам?
Она повернулась к кучке собранных ею сосновых шишек.
— Я готов, — ответил Граф после паузы, заполнившей молчание леса. — Но только одну за одной. Одну за одной. Сегодня мы заполним три полки. Три моих длинных, редкой работы полки.
— Да, отец.
Высокие сосны пропитывали воздух безмолвием.
— Фуксия.
— Что, отец?
— Ты моя дочь.
— Да.
— И есть еще Титус. Он станет графом Горменгаст. Ведь так?
— Да, отец.
— Когда я умру. Но знаю ли я тебя, Фуксия? Знаю ли я тебя?
— Ну, не знаю… хотя, — ответила девочка, и голос ее, как только она ощутила слабость отца, стал тверже, — думаю, мы не очень хорошо знаем друг друга.
И снова волна любви накрыла ее. Безумная улыбка, сообщавшая несообразность любому высказыванию, на какое решался Граф, — ибо говорил он с нежною сдержанностью, — пускай на миг, но перестала пугать ее. За свою недолгую жизнь Фуксия успела увидеть столько причуд самого разного рода, что при всем сверхъестественном ужасе, внушаемом ей этой блуждающей улыбкой, внезапное паденье преград, которые, сколько она себя помнила, лежали меж ними, пересилило все ее страхи. Впервые в жизни она ощутила себя дочерью — ощутила, что у нее есть отец, — ее, собственный. И пусть он сходит с ума, какая разница — нет, это, конечно, плохо, плохо для него. Но все равно — он ее отец.
— Мои книги… — сказал Граф.
— Они здесь, отец. Можно мне заполнить первую полку?
— Сонийскими поэтами, Фуксия.
— Да.
Она взяла из кучки шишку и поместила ее в самом начале прочерченной на земле линии. Граф внимательно следил за нею.
— Это Андрема, лирик — влюбленный — тот, чье перо трепетало, пока он писал, и постепенно синело, словно ушибленный ноготь. Стихи его, Фуксия, стихи его раскрываются, точно цветы из стекла, и в сердцевине их, между хрупкими лепестками, лежит индиговая заводь, светозарная и бескрайняя, точно рок. Голос его не приглушен — он подобен колоколу, чисто звонящему в ночи нашей беды, но ясность его есть ясность неведомой глуби… глуби… отчего и строки его будут струиться всегда, Фуксия… уплывая все дальше, дальше и дальше, вовек. Это Андрема… Андрема.
Граф, не отрывая глаз от шишки, которую Фуксия поместила в начале первой черты, раскрыл рот пошире и внезапно сосны дрогнули от страшного крика — полувопля, полухохота.
Фуксия закаменела, кровь отхлынула от ее лица. Отец, чей рот так и остался раскрытым, хоть крик уже замер в лесу, стоял теперь на четвереньках. Фуксия пыталась произнести хоть слово, но голос не шел из пересохшего горла. Отец смотрел на нее и наконец губы его сомкнулись и взгляд выразил грустную ласку, которую она узнала так поздно. Обнаружив, что снова способна говорить, Фуксия взяла еще одну шишку и повела рукой, как бы намереваясь положить ее рядом с «Андремой»:
— Мне продолжать, отец?
Но Граф не слышал ее. Глаза его смотрели в разные стороны. Выронив шишку, Фуксия метнулась к нему.
— Что с тобой? — спросила она. — Отец! Отец! Что с тобой?
— Я не отец тебе, — ответил он. — Или ты не знаешь меня?
Он ухмыльнулся, расширив глаза, в которых словно вспыхнули звезды, и пока они разгорались, пальцы Графа все скрючивались и скрючивались.
— Я житель Кремнистой Башни! — выкрикнул он. — Я смертоносный сыч!
Камышовая крыша
Медленно переступая по бугристой, заросшей тропе, Кида всякую минуту ощущала присутствие слева от себя святотатственного каменного перста, который вот уже семь томительных дней торчал над западным горизонтом. Он походил на привидение, и как бы ни играл на нем солнечный или лунный свет, оставался всегда зловещим, а если правду сказать, злобноватым.