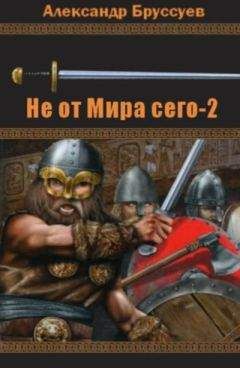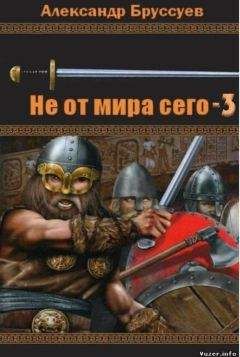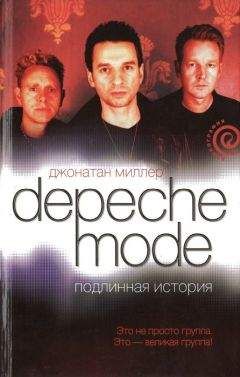Александр Бруссуев - Не от мира сего
Спешащих на выручку своим стражников он встретил на лестнице. Они подымались друг за другом, держа мечи в левых руках — справа были перила. Так было положено тогда при строительстве любого фортификационного сооружения — доставлять максимум неудобств атакующему противнику. В самом деле, где собрать воедино целую ватагу левшей, чтобы им удобно было биться, одновременно удерживая себя за перила?
Стражники своими левыми владели плохо, они, вообще-то, не были предназначены для наступательных действий. Да и для оборонительных — тоже. Им бы поглумиться.
Илейко смахнул своим тараном первых встречных, те — своих последователей. Добавив для верности по получившейся куче-мале доской, он выбежал во двор. Собственно говоря, его держали не в самой крепости, а во внутренней пристройке, соседствующей с конюшней. Тут же обнаружилась лошадь, готовая к употреблению, то есть, с седлом и уздечкой.
Илейко вскочил на нее и двинулся в сторону неприкрытых даже ночью ворот. Конь не выразил никакого протеста, прошел под аркой и самостоятельно выбрал путь движения вправо. Ну что же, лив не стал препятствовать этому выбору.
По нему начали стрелять из луков. Стрелки были хоть куда, кучность попадания была похвальной, к тому же в условиях темноты. Лошадь вздрагивала и вскрикивала, Илейко морщился и понукал несчастное животное. Они свернули за угол, скорость движения падала, пока не упала совсем вместе с конем.
Илейко сдернул с себя тевтонский шлем, похожий на ведро, одетый загодя перед выездом. В задние ноги лошади попала едва ли не полудюжина стрел. Одна из них, самая меткая, впилась в шею, что, в конечном итоге и привело к фатальному результату. Лива тоже задело. Если бы не поддетый под рубаху квадратный противень толщиной в полмизинца, то лежать бы ему сейчас подле своего коня. Но рукам досталось: в каждую воткнулось по стреле. Теперь они колыхались в такт движению и причиняли сильную боль.
Однако Илейко сориентировался и побежал к тому месту, где могла дожидаться его привязанная к коновязи Зараза. Он выломал древка стрел, но понимал, что острия нужно вытащить во что бы то ни стало. В противном случае — потеря рук и алес, путь закончится, едва успев начаться.
Сам выковырять железо он не мог, обратиться к кому-то за помощью посреди ночи было нереально. Поэтому, когда дорога привела его мимо балагана с опоившей его чиганкой, он, не задумываясь, откинул полог шатра и вошел внутрь.
Чиганка, конечно, все еще спала — ей же тоже пришлось хлебнуть своей сон-травы. Но спала она не одна. Илейко этого потерпеть не мог, слегка придушил сверкнувшего бешеным взглядом чигана и выбросил того за порог.
— А, это ты, — слабым голосом сказала она, когда лив перекрыл ей кислород, сжав прелестный носик большим и указательным пальцем.
— Мне тут кое-что приделали к организму. Хочу избавиться. Помоги, — сказал он.
Чиганка, приходя в себя, испуганно взглянула на звякнувшие кандалы.
— Нет, не это, — успокоил ее Илейко и показал сначала одну руку, потом другую.
Девушка не удивилась, протерла кулачками глаза, не прикрываясь ладошкой, широко зевнула и выудила откуда-то из воздуха клещи и маленький кривой нож.
— Сейчас будет больно, — предупредила она.
Илейко хотел, было, предложить как-нибудь почистить инструмент на предмет вероятной заразы, которая сидела в каждом углу этого чиганского поселения, но учуял запах крепкого алкоголя, который исходил из тряпочки, протирающей в данный момент нехитрый лекарский набор, и промолчал. Но сразу же открыл рот, едва сдержав рвущийся крик: это чиганка плеснула в рану тем же составом, что и на тряпку. Не успел он опомниться, как извлеченный наконечник стрелы из рук девушки вывалился куда-то на земляной пол. Сразу же пришла боль, потом другая, потом еще одна. Зато и второй кусок стрелы таким же образом упал ей под ноги.
— Ну, вот, — сказала чиганка, поочередно перевязывая руки белыми тряпицами. — Ручку-то позолоти.
— Ты ж меня отравить пыталась! — проворчал Илейко, однако достал из своей котомки серебряную артигу. Не потому, что он был очень щедрым, а потому, что попалась под пальцы.
— Благодарствую, — сказала девушка и сама вытащила монету из его руки — Постой. Разве я тут одна сегодня ночевала?
Лив, откинув полог, за шкирку втянул все еще пребывающего в беспамятстве чигана и бросил его к наконечникам стрел.
— Спокойной ночи, — сказал Илейко и исчез в предрассветных сумерках.
14. Достучаться до небес
Несмотря на все меры предосторожности, раны здорово беспокоили Илейку. У него начался жар, так что пришлось сделать привал в тихом и уединенном месте, поблизости от ламбушки с ледяной водой.
Той ночью Зараза встретила его тихим ржанием, в котором лив уловил оттенок радости. Он тоже был почти счастлив, когда обнаружил свою лошадь на прежнем месте. Вообще-то, увидав в Кеми чиган, в такой исход он верил слабо. Может быть, они решили не связываться с престарелой кобылой, или других дел хватало, но Зараза осталась в целости и сохранности.
Когда Илейко выезжал, то в крепости били в маленький колокол, созывая всех стражников, свободных от службы, на план-перехват.
Пост охраны, привлеченный тревожным звоном, проверил заветную печать на сабле и не стал, как у них принято, глумиться. Пожелали счастливого пути словами "ездят тут всякие" и принялись выдвигать предположения, одно краше другого, что могло бы произойти в крепости. Во всяком случае — не пожар. Значит, перепились. Спрятанные под накидкой кисти рук в браслетах никто и не заметил.
Лекарств у него не было никаких, поэтому вся надежда была на то, что организм, если ему не мешать, справится с болезнью сам. На сей раз он не был измотан до потери сознания, однако потеря крови и усталость сделали свое дело. Горячее питье из малиновых листьев, обильное количество ягод морошки, да собственная моча, используемая для повязок — вот и вся медицина.
Лишенная удил, стремян и седла, Зараза бродила поблизости, выискивая для себя пропитание, и выполняла добровольную обязанность сторожа. Илейко спал, истекая потом, в моменты пробуждения, когда он это осознавал, варил себе микстуру, стараясь шевелить только пальцами на руках, собирал морошку. Сделанные ножом чиганки глубокие разрезы на руках от любого неверного движения истекали кровью и сукровицей, но не источали запаха разложения, так что можно было надеяться, что воспаления, от которого отваливаются руки-ноги, удалось избежать.
В первые дни ему было очень плохо. Отсутствие постороннего ухода подсознательно давило своей никчемностью, ненужностью и глубочайшим одиночеством. Он вспоминал мать, отца и из-под закрытых век текли слезы. Плохо человеку одному, правда это начинает восприниматься глубокой трагедией только во время болезни, когда ладонь родного человека, возложенная на лоб, способна облегчить душевные страдания: ты не один, не сдавайся, ты нужен, тебе сострадают (перевод из песни P. Gabriel & K. Bush "Don" t Give Up", примечание автора). Но нету поблизости такой руки. Разве что — лошадиное копыто. И то хорошо, когда Зараза, ступая на цыпочках, подходила рядом и своими теплыми губами проводила по лицу, словно проверяя, жив пока?
Лошадь на цыпочках? Илейко это позабавило, но возвращало из бредового забытья в этот мир, где требовалось сменить себе повязки, сварить малинового настоя и собрать несколько горстей морошки. Слезы душевной слабости высыхали, чтобы потом, вновь заснув, проступать снова.
"Над землей бушуют травы,
Облака плывут кудрявы.
И одно, вон то, что справа — это я.
Это я, и нам не надо славы.
Мне и тем, плывущим рядом.
Нам бы жить — и вся награда.
Но нельзя" (стихи В. Егорова, примечание автора).
Илейко только в беспамятстве задавал себе вопрос: почему?
Почему ему не дают жить свободным? Почему слабые человечишки, доказывая всем свою состоятельность какой-то никому не нужной придуманной должностью, считают, что это можно сделать, только причиняя прочим людям боль? Почему, если рядом кто-то, отличающийся от стада, в чем-то выдающийся, то его нужно обязательно обидеть, унизить и оскорбить? Почему жизнь — это награда? Причем не от Бога, а от властвующего урода? Почему достигшему определенных, пусть и не принятых нынешним обществом высот, нужно защищаться, не видя врагов? Неужели, все враги?
Нет, только те, кто пустил к себе в душу Бога-самозванца. Он пытается подчинить себе этот мир, он пытается проникнуть в него. И для него одинаково враждебны, как Бог, так и Сатана. Ведь последний — всего лишь падший ангел, следовательно, мыслящий и действующий на уровне воспринятых им, еще, будучи ангелом воинства божьего, стандартов.
— Почему? — кричал в темноту Илейко, не шевеля при этом губами.