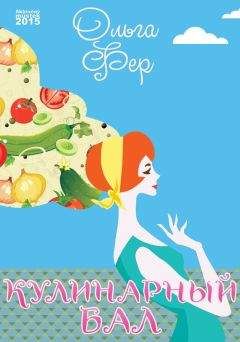Стивен Эриксон - Пыль Снов
Хенават смотрела ввысь и не находила подтверждения пророчеству легенд. Нет, луна получила смертельный удар. Она умирает. Но сеть не готова ее освободить, а луна — сестра, вечно холодная, вечно смутная, следит. Она ли убила соперницу? Рада ли она смотреть на предсмертные судороги сестры? Взор Хенават скользнул южнее, к близящимся нефритовым копьям. Небеса поистине вступили в войну.
— Чаю, Хенават?
Она оторвалась от созерцания неба, увидела двух женщин у костерка с дымящимся котелком. — Шельмеза, Рефела.
Рефела, предложившая чаю, подняла третью чашку. — Мы каждую ночь видим, как ты проходишь мимо, Майб. Беспокойство твое очевидно. Не сядешь с нами? Пусть ноги отдохнут.
— Я убегаю от повитух, — сказала Хенават и нерешительно подковыляла к ним. — Пробуждающие Семя жестоки — ну казалось бы, что такого в яйце? Думаю, нам хватило бы одного размером в пальмовый орех.
Шельмаза тихо и сухо засмеялась: — Надеюсь, не такого же твердого.
— Или волосатого, — добавила Рефела.
Теперь смеялись обе воительницы.
Хенават села, медленно, постанывая. Теперь костерок оказался в окружении треугольника. Приняла чашку, поглядела на жидкость, бурую в пляшущем свете. Из Болкандо. — Значит, вы не все им обратно продали.
— Только бесполезное, — сказала Рефела. — У них таких вещей полно.
— Вот почему мы так различны, — заметила Шельмеза. — Мы не изобретаем бесполезные вещи и не придумываем вздорных желаний. Если цивилизованность — как они любят говорить — имеет правильное определение, то вот оно. Как думаешь, Майб?
Древнее уважительное имя для беременной было приятно Хенават. Эти женщины молоды, однако помнят старые пути, знают, как уважить соплеменников. — Тут ты можешь быть права, Шельмеза. Но я гадаю, не определяют ли цивилизованность привычки, порождающие ненужные вещи и придающие им преувеличенную ценность. Привилегия делать ненужные вещи для них важна — она означает богатство, избыток, возможность жить праздно.
— Мудрые слова, — пробормотала Рефела.
— А чай уж больно сладок, — ответила Хенават.
Молодая женщина улыбнулась, без обиды принимая мягкое предостережение.
— Дитя толкается, — продолжила Хенават, — и тем возвещает истину о грядущих годах. Они, верно, будут безумными. — Она отпила чай. — Что это?
— Сафийский напиток, — ответила Шельмеза. — Говорят, успокаивает желудок, а с этой иноземной едой такое свойство очень кстати.
— Может, и ребенка успокоит, — добавила Рефела.
— Или сразу убьет. Ну, меня это не особо волнует. Слушайте же предостережение жалкого сосуда: устройте себе один разок и на том успокойтесь. Не слушайте змеиного шепота о благословенной беременности. Змея лжет, чтобы исказить память. Пока ничего не остается в черепе, кроме облаков и цветочного аромата — и тогда вы делаете это снова и снова.
— Зачем лгать змеям, Майб? Разве дети — не величайший дар женщинам?
— Так мы и твердим себе и другим. — Она снова отпила чаю. Язык жгло, будто она лизнула стручок перца. — Но недавно мы с мужем пригласили детей на семейный пир, и о как мы пировали! Словно голодные волки, решающие, кого между собой можно считать заблудшим теленком. Всю ночь дети тянули на себя окровавленную шкуру, и каждому довелось хотя бы раз ее надеть; а под конец они решили завернуть в ту мерзкую шкуру нас обоих. Поистине достопамятное воссоединение.
Молодые женщины промолчали.
— Родители, — продолжала Хенават, — могут решить заиметь детей, но не могут выбрать себе детей. Как и дети — родителей. Это любовь, да, но и война тоже. Сочувствие и яд зависти. Это мир, это перемирие между схватками утомленных сил. Иногда случается искренняя радость, но раз за разом эти драгоценные моменты всё короче, и на лицах вы читаете намеки горя, словно сознаете: миг прошел и вы будете вспоминать его как навеки потерянную вещь. Можно ли тосковать об исчезнувшем мгновение назад? Можно, и вкус у этого воспоминания горько-сладкий.
Шепчущая змея… мне она лгала в последний раз. Я удавила гадину. Привязала голову и хвост к двум коням. Собрала все косточки и размолола в пыль, и бросила пыль буйным ветрам. Сняла шкуру и сделала из нее ошейник для самой уродливой собаки. Потом взяла ту собаку…
Рефела и Шельмеза хохотали, и хохот становился все громче с каждой описываемой Хенават казнью.
Другие сидевшие у своих костров воины смотрели на них и улыбались, видя беременную старуху Хенават в компании молодых женщин. Во многих мужчинах любопытство боролось с немалой тревогой, ведь у женщин есть могущественные тайны, и самые могущественные — у беременных. Вы только взгляните в лицо одной из майб! А женщины, сидевшие слишком далеко, чтобы слышать слова Хенават, тоже улыбались. Хотели ублажить своих мужей? Возможно… но тогда выражение их лиц было инстинктивной привычкой обманывать.
Что же, они улыбались шепоту змеи, заползшей в головы. Дитя во чреве. Что за радость! Что за удовольствие! Отложите мечи, о прекрасные создания, и воспойте Пробуждение Семени! Следите, как падает семя — тьма манит и ночь тепла!
Что за аромат выпущен в воздух? Неужели он объял весь лагерь хундрилов?
* * *Желч сидел в командном шатре, так залив живот элем, что на пояс словно давила целая бочка, и оценивающе смотрел на ходившую взад-вперед высокую женщину с волосами цвета железа. Рядом сидел Баргаст Спакс, еще пьянее Желча, и покрасневшими тусклыми глазами следил за Смертным Мечом. Та пыталась выудить из Желча малейшие подробности относительно малазан. Откуда взялась внезапная неуверенность? Разве Напасть не присягнула Адъюнкту? О, если бы это видела королева Абрасталь! Но тогда ее заинтересовали бы незначительные вопросы, не так ли? Она старалась бы понять, не дает ли трещину великий союз и так далее.
А действительно интересные вопросы, порождаемые вот этой сценой, остались бы в стороне.
Жены Вождя Войны нигде не видно, и Спаксу пришло на ум, что ему пора уходить. Кто знает, когда Кругхева заметит наконец взгляд Желча — и что сделает? Но Спакс все сидел, вытянув ноги, на трехногом стуле; ему было слишком удобно, чтобы шевелиться, и слишком интересно наблюдать, как она пускает один горящий вопрос за другим в бесчувственную мишень Желча. Когда эта женщина сообразит, что вождь уже не отвечает? Что, пока она атакует и атакует, он давно бросил защиту? Так хочется увидеть этот момент, выражение лица — унести с собой и запомнить навсегда.
Что же заставит ее заметить? Если он выставит шею своего гусака и прицелится? Всего-то? Или сорвет с себя одежды? Боги подлые, куда такому слюнтяю. Пора уходить. Но им пришлось бы вытаскивать его из шатра. «Давай, Кругхева, ты сможешь. Знаю, сможешь. Погляди еще раз, женщина, на мужика, с которым говоришь». Нет, он никуда не пойдет.
Ах, вот вам возбужденная женщина. Что-то насчет слабеющей решимости или недостатка веры — внезапная угроза в самих рядах Серых Шлемов. Кого-то не хватает в структуре командования, нарушен необходимый баланс. Юноша с устрашающими амбициями… ох, будьте прокляты болотные духи! Он слишком пьян, чтобы уловить хоть каплю смысла!
«Почему я здесь сижу?
Что она говорит? Удели внимание, Кругхева! Плевать на него — не видишь мой бугор? Никому не нравятся гусиные щипки — подойди и сверни гусаку шею! Я избавлю тебя от беспокойства. Да, если бы женщины это понимали. Все ответы скрыты между моих ног.
Половина мира прозябает в невежестве!
Половина мира…
Гусак».
Глава 21
Послушай узнай что есть чары
гляди как расколота нега
на полную дюжину в склепе
и в лица двенадцати мертвых
ты смотришь
Зима длится долго
щиты расколочены в клочья
звук гонгов войны так неровен
глупцы заворочались в криптах
считают зарубки и раны
снег тает, следы погребая
чернила ворон портят небо
младенцы ползут перед строем
их пухлые ручки защиту
сулят всем, и сброшены шлемы
в разгаре безумного буйства
а кровь чем свежее, тем ярче
колодец бурлит, наполняясь
над раками встань одиноко
их мумии будут довольны
и стены гробниц о провалах
стократ вострубят, о триумфах
о славой набитых обозах
пусть мертвые валятся в кучи
хрустя под пятой. Вьются чары
родившись, Весна умирает
историю пишут воронам
детишки, их губы багряны
и радостно, бодро моргают
глаза на концах язычков.
О, кажется, Лету быть вечным…
«Приветствие сезону Войны», Галлан
«Город Тьмы, смотри же: тьма скрывает уродство твоего лица».
Они были на мосту. Она тяжело опиралась на плечо мужа, и успокоенная и почему-то рассерженная его упрямой силой. — Но ты же не видишь?