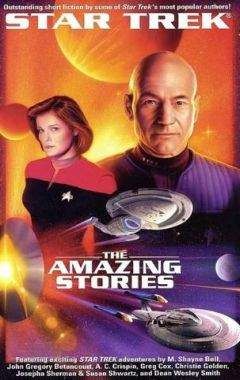Карина Демина - Голодная бездна. Дети Крылатого Змея
Ворчал, что ни к чему подвиги.
А это не было подвигом. Просто… так нужно, чтобы мир, наконец, успокоился. И рассыпающийся разум перестал рассыпаться. Чтобы она, Тельма, наново научилась дышать, ходить и что там еще положено делать человеку. Она бы и от машины отказалась, но представила поездку в городском автобусе, а потом и дорогу от остановки до дома, и решила, что и вправду для подвигов подберет иное время.
Машина тронулась с места мягко.
Мэйнфорд сам сел за руль и вел на редкость аккуратно, осторожно даже. Неудивительно, что ее убаюкало. Она даже сон увидела. С башней-маяком, со столиком под белой скатертью, с бутылкой вина – вот уж чего не было, не пьет Тельма в рабочее время… и с Мэйнфордом.
Он что-то рассказывал.
Улыбался.
И выглядел почти очаровательным, что было слишком даже для сна. А Тельма четко осознавала, что спит. Как понимала, что место это, сама ситуация – не более чем повторение недавних событий, вызвавших сильный эмоциональный всплеск.
Анализировать сон было на удивление просто и приятно.
Она сравнивала братьев.
И удивлялась тому, до чего они не похожи. Нет, если присмотреться, то в чертах лица усматривалось нечто близкое, к примеру разрез глаз или форма подбородка. Но у Гаррета эти черты находились в гармонии, лицо же Мэйнфорда было словно вытесано из гранита, причем наспех и скульптором не особо талантливым.
Но Тельме нравилось рассматривать его.
И слушать.
Правда, Бездна ее задери, чтоб она хоть слово понимала…
А потом машина остановилась, и сон закончился. Тельма открыла глаза, с сожалением отметив, что не отказалась бы, если бы дорога продлилась еще пару минут. Или пару часов.
Мэйнфорд любезно открыл дверцу и руку протянул.
– Я сама. – Тельма стряхнула обрывки сна. Жаль. Ей редко снятся хорошие сны. Но от нынешнего, как ни странно, осталось то самое терпкое послевкусие моря, которое поразило ее на вершине башни. И еще желание.
Запертое.
Сдерживаемое. Днем еще сдерживаемое, но ныне барьеры трещали, и Тельма знала, что хватит их ненадолго.
– Сама… конечно, самостоятельная… – Мэйнфорд добавил пару слов покрепче, и Тельма согласилась, что ситуация располагала. Весь нынешний гребаный день располагал.
Но главное, что дальше ее мнения не спрашивали. Мэйнфорд просто сгреб ее в охапку и поднял.
– Не нашла местечка получше? – Он ворчал, потому как тоже устал от молчания и всего дерьма, которое свалилось на них за последнюю неделю.
От тайн.
И слепоты, которая злила. Ведь Тельма чувствовала – разгадка близка. Руку протяни… главное, чтобы эту руку Бездна не сожрала.
– Зарплату поднимешь – найду… – Ей не хотелось больше отстаивать право на самостоятельность. И видят Боги, что нынешние, что Низвергнутые, лестница – хороший повод побыть беспомощной.
Сотня ступенек.
А то и две.
– С зарплатой – это не ко мне…
– Вот так, как с работой – это к тебе, а с зарплатой…
Ступеньки покачивались, но и мысли не возникало, что Мэйнфорд ее не удержит. Он надежен, куда надежнее скал, и моря, но Тельму волнует не это.
Запах.
Горьковатый, полынный. И еще с толикой табака и горького шоколада, с лакрицей, которую прежде Тельма на дух не выносила, а теперь ей хочется самой пропитаться этим запахом.
Это все откат.
Наведенное. Чужое. И Тельма ведь понимает прекрасно, и про наведенное, и про чужое, но все равно льнет, завороженная и запахом, и теплом.
Силой.
Кто бы мог подумать, что камень способен таить в себе столько тепла.
Нет, спать с начальством – дурная идея… и это даже если отбросить факт, что Мэйнфорд – сволочь первостатейная… но уютная же сволочь.
И горячая.
Сладкая.
Тельма тянула силу, понимая, что еще больше пьянеет, а чем больше она пьянеет, тем меньше остается желания сопротивляться инстинкту.
Надо.
Чего ради?
Соблюдения эфемерных приличий? Они суть ложь, а потакая лжи приближаешь Бездну. Не так ли было писано во всех книгах, которые называют священными?
– Ключи, – хрипло попросил Мэйнфорд, остановившись перед дверью.
– В кармане. – Тельме хотелось и смеяться, и плакать. А еще вцепиться в него, когтями и зубами, прокусить толстую кожу, чтобы до крови, чтобы сладость этой крови ощутить на губах.
И силу тянуть.
У него ведь много.
Он поставил Тельму.
– Держишься?
Держится. И опирается на стену, а еще на него, не отталкивая, скорее умоляя не убегать. А ему следует. Ему опасно оставаться.
Только и он не спешит.
В глазах – туман… откуда взялся? Эти ведь глаза обыкновенными были, а теперь вот туман… и рука, которая ищет ключи – обманула Тельма, они не в кармане, в сумочке, а где сумочка она сама не вспомнит. Но главное, что рука эта поглаживает мятую блузку.
Вытягивает.
– Отпусти, – это почти мольба, и Тельме, Бездна ее побери, нравится, что ее умоляют. – Завтра же жалеть станешь…
Быть может. Но когда еще будет это завтра? И она, подавшись вперед, с мурлыканьем, с сипом болезненным, вцепилась ему в губу. Это не было поцелуем.
Укусом.
И кровь оказалась действительно сладкой.
– Бестолковая… – Мэйнфорд не разозлился, и сила не отступила, напротив, потянулась к Тельме, обнимая, спутывая сотней петель. И каждая жгла.
Того и гляди, Тельма сама вспыхнет.
Прямо здесь.
На площадке… не самое лучшее место, но она не способна теперь шевелиться.
– Погоди. – Мэйнфорд не стал искать ключи, и за управляющим, у которого должны бы храниться дубликаты, не пошел. Он просто легонько пнул дверь, и та разломилась…
…завтра скандал будет.
…компенсацию потребуют за порчу имущества… и вообще, как Тельме на работу идти, если дверь сломана?
Здравые, в общем-то, мысли были сиюминутны. И то, дурное, наведенное, а может, всегда жившее внутри Тельмы, их отбросило. Оно требовало не мыслей – действий.
Содрать плащ.
И пиджак Мэйнфорда. Галстук его нелепый. На таком только вешаться… а Мэйнфорд не сопротивлялся. Мог бы уйти, или спеленать ее, или сделать хоть что-то. А он просто стоял, позволял себя трогать, пусть прикосновения Тельмы и были лишены даже тени нежности.
Она рванула рубашку, и ткань затрещала.
Пуговицы выдирала одну за другой, получая от этого извращенное удовольствие. Она дотянулась до шеи и оставила на ней свою метку. Еще одну – на плече… и потом, кажется, терпение Мэйнфорда иссякло.
Петли силы сдавили.
Полыхнули, опаляя. Следом вспыхнула юбка, распадаясь на клочья. Блуза задымила. Стоило бы испугаться, но прикосновение почти воплощенного пламени не вызывало страха.
Напротив, было хорошо.
Правильно.
– Не боиш-ш-шься? – поинтересовался Зверь с желтыми глазами, который слишком долго притворялся человеком. И потому ему, Зверю, было тяжело говорить.
– Нет.
Как можно бояться огня?
Тельма подняла руки, позволяя пламени растекаться по коже. И рыжие плети обвили запястья, поползли выше, сдавили локти, стягивая за спиной. Почти поймал.
Почти удержал.
И все же ослабил хватку. Дыхнул жаром на грудь, и в животе заныло, тяжело, противно. А Зверь просто перекинул Тельму через плечо…
…правильно, в коридоре слишком мало места.
Она же, не желая лежать спокойно, извернулась и вновь укусила Зверя… жаль, что крыльев нет, с крыльями ночь была бы куда интереснее.
…и все-таки она сошла с ума.
Пробуждение было болезненным.
Не так.
Пробуждение было стыдным.
Отвратительным.
Позорным.
Тельма открыла глаза и уставилась в потолок. Как ни странно, она помнила все, что произошло накануне.
Обед с Гарретом.
Вызов.
Такси, в котором водитель беспрестанно говорил о грядущих выборах и о том, что надо голосовать за Тиксера, потому что только консерваторы помнят, каким был сотворен Новый Свет, а всякие там либералы вот-вот развалят мир.
Дом. Пожар.
Комнату, в которой погиб Найджел Найтли. Свои безуспешные попытки. Магию Кохэна и самого его в образе Крылатого Змея. И она была бы рада, если бы память, в кои-то веки проявив милосердие, на том остановилась. Пожалуй, нынешнее утро располагало к легкой амнезии. И будь Тельма хоть сколько бы хорошей актрисой, она бы эту амнезию разыграла.
Но она отдавала себе отчет, что способностей у нее немного, да и не поверят…
Проклятие.
И что теперь?
Что-нибудь… надо придумать… объяснить… или просто сделать вид, что ничего не произошло? Самое отвратительное, что решать придется сейчас. Мэйнфорд, чтоб его Бездна забрала, не соизволил убраться восвояси.
Лежит рядом.
И не спит.
Тельма точно знает, что не спит. Руку за голову закинул, потолок разглядывает. Надо бы заговорить, наверное, надо, потому что чем дальше, тем более напряженным становится молчание. Вот только знать бы еще, что сказать.