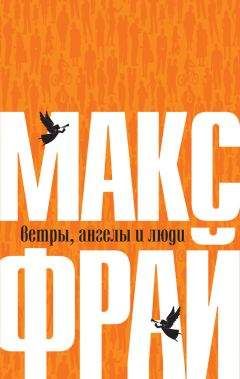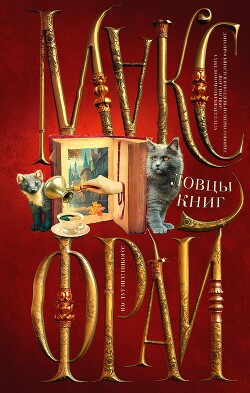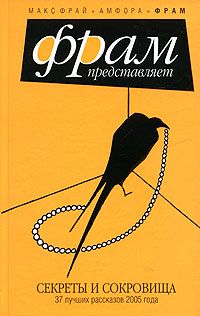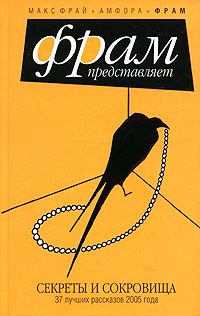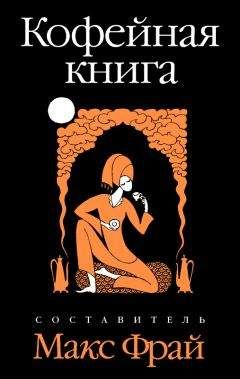Волна вероятности - Фрай Макс
Но в основе обе версии все-таки совпадали, поэтому он, не узнавая, чувствовал направление – от окраины Старого Города в центр. Это было не важно, но важно, как и все остальное, что сейчас с ним происходило. Не имело значения, потому что имело такое значение, которое не помещалось, не укладывалось в уме.
С каждым шагом тело становилось все легче, таким невесомым, будто вот-вот взлетит. И воздух казался (и был) не просто прозрачным газом, пригодным для человеческого дыхания, а плотной невидимой тканью (не тканью!), которая от каждого прикосновения переливается и звенит. Так – он помнил (не помнил, но все-таки помнил) – бывает всегда, когда гуляешь с Аньовом. Больше всего на свете любил с ним гулять и превращаться – да черт его знает, во что, как вообще называется странная штука, которая ходит с Аньовом гулять.
И сейчас, как во время (в пространстве возможности) тех невозможных прогулок, Миша (Анн Хари и Казимир) не смотрел на Аньова, потому что если смотреть на него в упор, ничего особо интересного не увидишь, с виду прежний Аньов был обычный, среднего роста скуластый сероглазый мужик. Зато боковым зрением можно заметить его прозрачную тень, огромную, до самого неба, накрывающую собой весь мир. Тень Аньова была зеленая, но это не видимый глазу цвет, скорее, абстрактное знание о существовании зеленого цвета, память о том, что он в принципе есть. И такая подвижная, летящая во все стороны разом, что невозможно долго держать ее в поле внимания, кружится голова. Вот и теперь закружилась, не настолько, чтобы упасть, но пришлось опереться на руку спутницы. У незнакомой женщины в белом была хорошо знакомая, сильная, самая надежная в мире рука.
– Прямо сейчас ты до неба, – наконец сказал он. – А не «когда-то был».
– Ты художник, ты так видишь, – рассмеялась она.
– Вижу. И раньше тоже так видел. Не представляю, как можно было это забыть. Все что угодно, но не тебя же! А я все равно забыл. И знаешь, что еще удивительно? Я твое имя сразу же вспомнил. И мысленно так к тебе обращаюсь. Но почему-то не могу произнести его вслух.
– И не надо. Здесь, сейчас я Юрате. Других имен у меня не осталось. И ты меня так называй.
– Сложно, – вздохнул Миша (Анн Хари). – Я-то знаю, что ты не Юрате! Но ладно, привыкну. Лучше ты без прежнего имени, чем совсем никакого тебя.
– Вот и я так решил… решила. Решило! Иногда грамматика – это очень смешно.
– Да не то слово. А еще смешней, что я в шоке. Вроде бы знаю, что внешний облик – иллюзия. Сам в свое время как только ни выглядел, всех Ловцов этому учат. Но все равно в голове не укладывается, что это ты.
– Сама поначалу от собственных отражений шарахалась, – рассмеялась Юрате. – А-а-а-а-а, мама, кто здесь?!
– Но, кстати, отличная из тебя вышла тетка. Глазастая и сердитая. Тебе идет.
– Рада, что тебе нравится, – усмехнулась Юрате. – Но тетка из меня примерно такая же, как был дядька. То есть вообще никакая. Иллюзия и вранье. Когда ты, по сути, вне этой концепции, чувствуешь себя полным придурком, вынужденно втискиваясь в нее. Но тут ничего не поделаешь. Люди – такие. А я сейчас человек.
– Да ладно тебе. Скажешь тоже. Не бывает таких людей.
– Значит, теперь бывают, – пожала плечами Юрате. – И это хорошая новость… наверное. Для людей. Справедливости ради, текущая форма оказалась удачной. В здешних женщинах больше жизненной силы. Да и просто выносливости. В таком виде я еще могу продолжаться. У меня получается быть.
– Господи. Именно так стоит вопрос? Вот настолько все плохо?
– Все вот настолько отлично, – твердо сказала Юрате. – Меня здесь, сейчас быть не может. А я есть.
– А все остальное? – спросил Миша, Мирка, Анн Хари, я не знаю, как называть его прямо сейчас, когда он замер, ожидая ответа, пульс как минимум сто пятьдесят, заранее почти умер от горя и заранее же приготовился сразу воскреснуть, чтобы сказать: «Быть такого не может, – и добавить: – Ты подумай, пожалуйста, чем я могу помочь».
– Условно, – усмехнулась Юрате. – На птичьих правах одной из множества несбывшихся вероятностей. Но все-таки есть.
– Ладно, с этим уже можно работать, – выдохнул Миша (Мирка, Анн Хари, с ним уже почти все в порядке, но от этого не стало понятней, кто он сейчас).
– Можно, – кивнула Юрате. – Мы и работаем. Поэтому есть до сих пор. Дать сигарету? А то выглядишь так себе.
– Я красавчик. Я всегда круто выгляжу, – твердо сказал Анн Хари, прислоняясь спиной к очень твердой, надежной, почти по-зимнему холодной стене. – Давай договоримся, что сигарету ты дашь мне за это. Пусть она считается главным призом на районном конкурсе красоты.
– Типичный Мирка, – улыбнулась Юрате. – Как будто вчера расстались. Сколько-сколько, говоришь, для тебя прошло лет?
– Кофе, – сказала Юрате, когда они вышли на широкий бульвар. – Нам обоим не помешает. Здесь рядом как раз кофейня, она вполне ничего.
– Тема, – обрадовался Миша (Анн Хари). – Только учти, у меня нет денег. Забыл кошелек и карту, поленился за ними вернуться; собственно, правильно сделал, а то бы не встретил тебя.
– Я тебя обожаю, – улыбнулась Юрате. – Богема и голодранец. Садись на скамейку и никуда не девайся. Оставить тебе сигарету?
– Давай.
Кофе опять был хороший. То есть, средний по меркам Лейна, но фантастический для ТХ-19. Раньше здесь не умели так.
– Кофе из-за нас такой обалденный, – сказала Юрате, отвечая то ли на его мысли, то ли просто на выражение лица.
Миша сперва не понял. Спросил:
– Из-за нас с тобой? Потому что мы встретились? Но с утра, до твоего появления кофе тоже был ого-го.
– Не потому что мы встретились, а потому что мы были. Этот кофе – эхо нашей реальности. Ее тень и вещественный след. Не представляю, как такое возможно технически. Но на то и чудо, чтобы не представлять.
– В Вильнюсе везде такой кофе?
– Нет. Но примерно в десятке кофеен – такой. Кое-где еще и получше. Подозреваю, ну или просто надеюсь, что пока отыскала не все.
– Десяток – это тоже немало.
– Еще бы! И каждая мне опора. Когда я пью у них кофе, я чувствую себя дома. Когда я пью кофе, я – почти я.
– И я – почти я, – эхом повторил за ней Миша. – Вот прямо сейчас. Почти настоящий художник Мирка из синего дома, ну надо же, а.
– Да ладно тебе – «почти»! – улыбнулась Юрате. – Уж не знаю, кто тут вообще настоящий, если не ты.
– Может быть, – согласился Миша (Анн Хари). – То есть, если ты говоришь, значит, так и есть. Но изнутри странно это все ощущается. Я ни в чем не уверен. И прежде всего в себе. Я же все это время вообще ни черта не помнил. Ни о тебе, ни о нашем городе, ни о том, каким я тут был. Ничего. Пятьдесят с лишним лет! Целая человеческая жизнь могла бы поместиться в мое беспамятство. Короткая, но здешние люди, бывает, и меньше живут. Меня это страшно бесило. Сам факт такого провала в памяти. Жизнь – моя, я хочу помнить все! Поначалу надеялся, сила слова поможет. Но хрен там. Стоило – не сказать! не вслух! – всего лишь подумать, что я однажды все вспомню, чуть сознание не терял. Только поезд…
– Поезд? – удивилась Юрате. – Ты что, вспомнил, как возвращался домой?
– А я возвращался на поезде?
– Да.
– Значит, правильно я догадывался. Но думал, что ерунда.
– Так ты вспомнил его?
– Не то чтобы вспомнил. Но время от времени мне снилось, как я еду в поезде. Один в пустом вагоне. Все вагоны пустые, я – единственный пассажир. Точно знаю, что уезжаю от неизвестной страшной опасности и одновременно от какого-то тайного смысла, без которого вряд ли смогу прожить. Что за опасность, в чем заключается смысл, не помню, но при этом даже в полном беспамятстве продолжаю что-то, кого-то больше жизни любить. Удивительное переживание. Наяву я совсем не такой.
– Тебе только кажется, – улыбнулась Юрате.
– Да, наверное. Я больше не знаю, какой я. Слишком много противоречивой информации, концы с концами не сходятся. А сколько еще отыщется неведомых мне концов! Те сны про поезд были мрачными и тяжелыми, но я их ждал, хотел повторения, они мне казались мостом между памятью и беспамятством, между мной и другим, неизвестным мне мной. Иногда я специально ради этих снов напивался, потому что поезд мне обычно снился в похмелье. На трезвую голову не хотел.