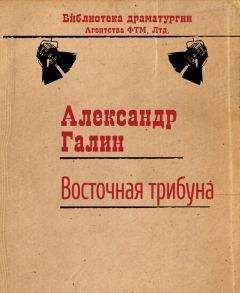Лесса Каури - Золушки из трактира на площади
– Здесь только тредья часть, – неожиданно смутился гончар, будто Бруни поймала его за каким-то неприличным занятием, – остадное хранится на чердаке!
– А ваши последние работы, – поинтересовалась она, – «Осенняя фея» и «Пресветлая с Аркаешем» – я могу на них посмотреть?
– «Фею» – да, – кивнул Висту, – но дад «Пресветлой» я еще даботаю!
– Он даже мне ее не показывает! – похвасталась Туча Клози. – И дверь в мастерскую запирает, а ключик носит на шее!
Вистун покраснел до цвета собственного насморочного носа.
– Не позодь беня педед гостьей, Кдози! – смущенно сказал он. – Де богу я дикому показывать дезакодчедные работы! Так было и так будет! – и внушительно, и сердито глянул на матрону Мипидо.
А та кивнула, как послушная девочка:
– Как скажешь, солнце!
Глава Гильдии гончаров повел рукой:
– Смотдите, Мадушка. Де все из дих пдодаются, до я вас о дом предупдежу.
Заложив руки за спину, Бруни медленно двинулась по коридору. Ей поневоле вспомнилась галерея во дворце, та, с огромными окнами, куда они неосторожно выскочили с Ваниллой после посещения мастера Артазеля. Там тоже висели портреты в шикарных позолоченных рамах, громоздкие, полные богатых, но темных тонов. И ни на один из них она не променяла бы полотна, которые сейчас разглядывала!
Висту рисовал природу, умудряясь уместить на грубовато проработанных древесных стволах тончайшие ходы жучков-древоточцев, а на листьях – прожилки, светящиеся жизнью. Висту рисовал небо и море опрокинутыми друг в друга чашами, полными пены и облаков, солнечного сияния и загадочного мерцания лунной пыли, парусов и чаек, одинаково стремительных и белоснежных. Он не пытался приукрасить изображаемых людей, и оттого их лица были и грубы, и некрасивы, и глупы – ежели таковыми являлись хозяева, но, благодаря этим портретам, все они получили новую жизнь и пропуск в Вечность.
Матушка смотрела и не могла насмотреться! Такое искусство – не ярморочно-яркое, слащавое, но искреннее и временами даже непривлекательное, ей было близко и понятно. И – она знала точно! – будет близко и понятно людям. Томазо Пелеван не подозревал, как был прав, когда обмолвился о выставке картин Висту.
– Мастер, – Бруни повернулась к нему, – у меня к вам встречное предложение! По плану, нарисованному Томазо, в мансарде здания будет большое и светлое помещение. Ваши картины чудесны, но здесь их не видит никто, кроме вас. Давайте откроем их для людей! Я предоставлю мансарду для выставки ваших полотен почти бесплатно!
Клозильда хмыкнула и одобрительно кивнула. Ей нравилось и предложение Матушки, и то, каким образом оно было сделано. Матрона Мипидо тоже была дамой с деловой хваткой.
– Бочти? – мягко улыбнувшись, уточнил гончар.
– Когда интерьер нового трактира будет готов, вы сами подберете под него картины для оформления, – пояснила Бруни. – Иногда мы будем менять их, чтобы оживить залы. А остальные ваши полотна пусть живут в мансарде, не в темноте, но на свету, и радуют людей, как радуют меня – влюбившуюся в них с первого взгляда!
– Зачеб ваб это? – Висту внимательно смотрел на нее.
Она пожала плечами.
– В жизни немного радости, мастер, и еще меньше правды. А ваши картины полны ими, как осенние соты медом. Вы покажете мне «Фею»?
Висту, кажется, для себя уже все решил. Но повернулся к Туче Клози и спросил:
– Как тебе пдедложедие Мадушки?
Клозильда бросилась ему на шею, едва не повалив на пол, расцеловала в веки и губы, отодвинула от себя и сказала, с любовью глядя в глаза:
– Ты – истинно велик, мой Вистунчик! Пусть Вишенрог узнает об этом!
Бруни едва не расплакалась, глядя на них – побитых жизнью и одиночеством людей, неожиданно обретших друг друга на ее дне рождения.
– Догда у бедя всдедчдое пдедложедие! – широко улыбнулся мастер и чихнул. – Есди «Фея» ваб пдидедся по вкусу – я ее ваб подадю!
Бруни испуганно посмотрела на Клози. Когда Висту устраивал художественные сеансы в трактире, Матушка в отчаянии кружила по городу, пытаясь узнать, как снять проклятие с Кая. И она понятия не имела, что изобразил художник. Ей представилась голая и оттого розовая, как поросеночек, Клози, возлежащая на огромном блюде, обложенная овощами и фруктами, с яблоком в зубах… Или – упаси Индари! – с морковкой!
– Если… если Клози не против! – согласилась она, мучительно раздумывая, куда повесить картину так, чтобы не обидеть художника и не скомпрометировать главу Гильдии прачек.
– Идебте! – решительно сказал Висту и повел Матушку и Клози за собой по коридору в почти пустую комнату, где на полу лежал светлый ковер, а на выстроенных под самый потолок полках красовались горшки, амфоры и вазоны разных размеров, форм и расцветок.
В центре комнаты стоял мольберт с натянутым на раму холстом. Обрамлением картине служили желтые и красные листья, вобравшие в себя свет болезненного осеннего солнца. Между ними, будто глаза любопытствующих оленей, проглядывали крупные виноградины, а пламенеющие ягоды калины казались драгоценными камнями, вплетенными в венок.
Только приглядевшись, Матушка поняла, что листья и ягоды не настоящие, а нарисованные. Окруженное ими голубое пространство отличалось таким редким оттенком, какой небо обретает лишь в последние солнечные дни осени, расцветающие подобно последней любви в жизни увядающей женщины. В нем парила кругленькая, уютная красноволосая фея с венцом ранней изморози на челе, стыдливо укутанная в дымку туманов. Ее высокая прическа с легкомысленно выпущенными локонами была украшена дольками разноцветных яблок, в ушах красовались серьги из черного винограда, а на руках – браслеты из гроздей калины и рябины. Внизу располагался натюрморт: мощная тыква, удачно оттеняемая шелковой зеленью роскошного кабачка. Разноцветная спираль осеннего изобилия разворачивалась за ее спиной зеленью сельдерея и оранжем моркови, сдержанной желтизной репы, хулиганскими полосками арбуза, виноградом – зеленым, желтым, красным, иссиня-черным… Фея летела над землей, даруя ей последние теплые дни, богатые урожаи и улыбки, – и она была прекрасна!
Рядом с Бруни раздался странный звук: иногда длинными зимними вечерами так вздыхали коровы в хлеву, то ли засыпая, то ли тоскуя, то ли желая испить воды. Матушка покосилась на Клози, рукавом смахивающую слезы.
– Всегда, когда вижу ее, плачу, – пояснила та, шумно сморкаясь в платок, любезно предложенный Висту, – как я хороша, ну как же я хороша!
Матушка молча погладила подругу по плечу и снова повернулась к картине. Фея, несмотря на приличные габариты, казалась невесомой, лукавой и озорной. С такой Бруни с удовольствием прогулялась бы по лавкам, шумно обсуждая встреченных парней и хохоча над их смущением. Такой доверила бы тайны, даже те, которых стеснялась. И та вытерла бы ее слезы и сказала что-нибудь уморительно смешное, отчего любая беда показалась бы пустяком.