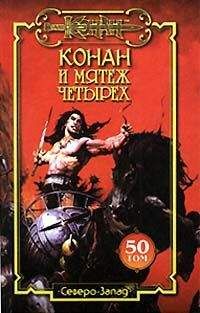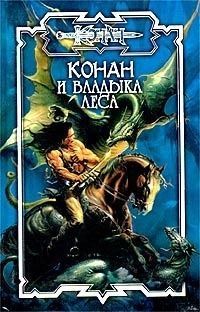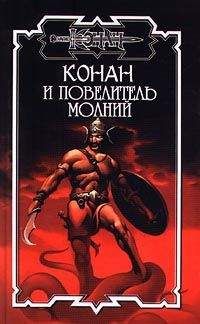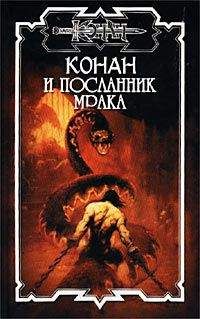Гидеон Эйлат - Бич Нергала
— Нет. — Павлан потупился, изображая пристыженность, которой не испытывал. — У него скакун из конюшен Токтыгая. Чистых туранских кровей.
— И гирканцев ни слуху, ни духу, — задумчиво произнес тысяцкий. — Неужели и они продались? — И сам же ответил: — С них станется. Та же порода, что и апийцы. Канюки степные. — Он вдруг напрягся и с тревогой посмотрел на Павлана: — Ты видел апийцев, которые напали на пехоту?
— Видел.
— Сколько их было?
— Сотня, может, чуть больше.
— А на холме — от силы полтораста. — Сотник помолчал, подсчитывая в уме. — Позавчера в лагере их было тысяч пять — значит, четыре с половиной ушли. Куда? В Ап?
Павлан вздрогнул и схватился за нагайку.
— К нам в тыл! Штурмуют крепость! Назад! Скорее!
Несколько минут вокруг него царила сумятица. Затем блистательная нехремская конница, самая дорогая и любимая игрушка Токтыгая, гремя тысячами копыт, понеслась к Бусаре, а следом, жалобно скрипя под тяжестью искалеченных солдат, двинулись боевые колесницы.
С вершины чадящего холма их провожал бесстрастным взглядом всадник в серых доспехах.
Глава 3
Каждый раз, когда Ибн-Мухур входил в Поющую Галерею, его сердце на миг восторженно замирало, а затем начинало биться в неровном праздничном ритме, как на шумном пиру среди друзей детства, после кубка-другого золотого аргосского вина. Подпружиненные плитки из оникса, благородного жадеита и драгоценного афгульского лазурита, подаваясь под стопой, шевелили крошечные колокольчики в полусферических полостях, которые усиливали звуки. Песня колокольчиков взлетала под своды зала и там повторялась удивительно звонким эхо — о сем позаботился талантливый зодчий, прославивший свое имя еще строительством зиккуратов Дамаста. Восхищал и узор мозаичного пола, особенно в солнечные дни, когда в Галерее бывало много гостей; шевелясь, плитки щедро разбрасывали по стенам радужные лучики.
Давно ушел в небытие тот знаменитый строитель — своей смертью, благодаря золоту Агадеи. Уже в преклонные годы соблазнился ои посулами коварного узурпатора и бежал из Дамаста, от сурового и своенравного владыки, к новому пришлому королю злосчастной Пандры. Но там он не задержался — Сеул Выжига отослал его за восточные кряжи Гимелианских гор, в благодатную Вендию, где на деньги, выколоченные правдами и неправдами из несчастных подданных, он купил целую провинцию, плодородную долину с кипарисовыми рощами и дуриановыми садами, с полями хлопка и деревнями трудолюбивых и покорных вендийцев. Туда Сеул рассчитывал перебраться к старости, а пока жал из пандрцев, доведенных до отчаяния, последние соки. В Вендии зодчий построил ему роскошный дворец; грандиозную родовую усыпальницу и неприступную сокровищницу; в Вендии, по замыслу неблагодарного шемита, должен был упокоиться и его прах. Но слуга Сеула Выжиги Тахем, бессердечный мытарь и хладнокровный убийца, приставленный к строителю, в последний момент не устоял перед мерцанием жемчуга и злата, и именитый старец, вместо того чтобы проглотить лошадиную порцию яда и испустить дух посреди кровавой блевотины, тайком уехал на северо-восток, а в могилу, уже вырытую для него, улегся глухонемой дурачок из ближайшего селенья.
Много таких историй поведал бы Ибн-Мухур, не лежи на его устах строжайший запрет властелина. К иным славным деяниям ануннак и сам приложил руку, и в глубине души надеялся, что когда-нибудь о его подвижничестве узнают все к вящей славе его древнего рода.
Галерея опоясывала дворец двенадцатиугольником. В плане загородная резиденция короля напоминала поперечный разрез апельсина. От центрального покоя нижнего, самого просторного, яруса радиально уходили перегородки между залами. Лишь темно-зеленая полусфера крыши придавала дворцу сходство с гигантской черепахой, неведомо чьей прихотью из тропической лагуны перенесенной в горную долину. «Черепаху» окружал ухоженный сад, в нем с растениями этих неласковых широт уживались экзоты, даже такие капризные, как магнолии и виноград. Садовники радели не за страх, а за совесть: мерзляков на зиму старались уложить на землю и засыпать палой листвой, а не получалось — стволы обмазывали топленым салом и окутывали соломой; по весне, едва лопались почки, их ежеутренне поливали водой и окуривали дымом.
Стоило ли удивляться тому, что человек, совершая прогулки по этому саду, обретал телесную бодрость? Любые раны здесь заживали быстрее, а хвори нередко исчезали без следа, когда их касалось дыхание дерев и лоз.
«Я напоен томленьем листьев и цветов. В меня вселился мир, и я склоняюсь пред бессмертием твоим», — начертал на папирусе великий кхитайский поэт Куй-Гу, гостивший почти целую луну у деда Абакомо. Теперь папирус хранится в дворцовой библиотеке среди прочих сокровищ человеческой мысли, а косточки непоседливого Куй-Гу белеют где-то среди боссонских топей, и одному Нергалу ведомо, что за нелегкая занесла богатого восточного философа, поэта и музыканта в такую даль. Но насчет бессмертия сада он, безусловно, прав — оно достойно поклонения. Бродя по этим аллеям, как будто заражаешься вечностью, и серые равнины отступают в сумрачную даль, суживаются до крошечного пятнышка в безбрежном океане бытия… Да простит их владыка невольное кощунство.
Ибн-Мухур отвел взгляд от сада, что навевал прохладу под арки Поющей Галереи. Бубенцы под его ногами зазвенели веселей, приободрилось и эхо под сводами. Ануннак не любил опаздывать.
Шагах в пятидесяти за его спиной раздавался точно такой же нежный перезвон. Ибн-Мухур задержался на мгновение, обернулся — позади шествовал невысокий полный человек в златотканом кафтане и меховой шапке с огромной серебряной кокардой. У Ибн-Мухура екнуло сердце, но не страх и не тревога были тому причиной. Волнение. Он узнал благородного Виджу. Ко двору Абакомо Виджа прибыл несколько лун тому назад и вмиг снискал себе редкую для посла репутацию записного гуляки. Разумеется, Ибн-Мухур сразу заинтересовался и велел двоим пажам заняться им; юноши взялись за дело ретиво, и вскоре Виджа обзавелся разудалой компанией верных друзей, готовых ради него и в огонь, и в воду, знающих толк в вине и девочках. Пристрастили его и к опию — кхитайскому зелью, над которым в Храме Откровения Инанны сейчас работало полдюжины алхимиков с подмастерьями. На одной из пирушек Ибн-Мухур даже подарил нехремцу кальян собственной конструкции (с такими же точно машинами наслаждения недавно отправился к апийским соправителям Бен-Саиф).
Уже через две недели Ибн-Мухур знал о Видже всю подноготную и мог без труда подцепить его на крючок, но не видел в этом необходимости. Новый нехремский посол устраивал его, как никто иной. Он не совал нос в чужие дела: Эрешкигаль свидетельница, какого труда стоило избавиться от его предшественника, твердолобого святоши, возомнившего себя радетелем отечества. Ануннак покраснел, вспомнив свой позорнейший провал.