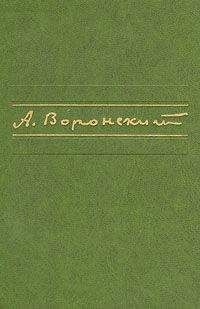Александр Золотько - Бомбы и бумеранги (сборник)
Пальцы Мэри, лежащие у Эмерсона на предплечье, вдруг судорожно сжались, сгребя ткань его сюртука в горсть. Но Эмерсон не взглянул на жену, не в силах оторвать взгляд от странного посетителя.
– Мистер Эмерсон, сэр, – церемонно проговорил Дженкинс. – Разрешите представить вам Говарда. Он полномочный представитель Поселения, все наши дела мы ведем преимущественно через него. Говард, это мистер и миссис Эмерсон, наши новые хозяева.
– Это честь для меня. Как поживаете? – сказал тот, кого Дженкинс представил Говардом (не прибавив «мистер», так что осталось неясным, имя это или фамилия).
Речь его звучала правильно, но голос казался странно невыразительным, блеклым. Он точно не был туземцем: за время путешествия через Ост-Индию Эмерсон достаточно повидал индусов, и уже ни с чем бы не спутал их характерные крупные черты, густые брови, большие блестящие глаза. У Говарда же черты лица были вполне европейскими, пожалуй, даже английскими – вытянутая форма черепа, тонкий нос с длинными ноздрями, острый подбородок. Но кожа его была оливкового цвета, а глаза – ярко-серого, именно ярко-серого, так, что казались серебряными. Уже одного этого хватало, чтобы признать внешность «поселенца» в высшей степени неординарной, а механические рука и нога довершали картину и превращали Говарда в самого необычного человека, какого когда-либо видел Эмерсон.
– Мы узнали, что в поместье новый хозяин, – проговорил Говард, глядя Эмерсону в лицо почти немигающим взглядом серебристых глаз, но обращаясь как будто к Дженкинсу. – Надеюсь, с ним не будет никаких проблем.
– О, разумеется, никаких. Ни малейших! – живо отозвался Дженкинс, улыбаясь очень широко, очень любезно, но, как показалось Эмерсону, не вполне искренне.
Он вдруг осознал, что Мэри все еще судорожно стискивает его локоть. Он посмотрел на жену, но, как обычно, ничего не смог прочесть на ее лице. Она казалась такой же спокойно и равнодушной, как когда Дженкинс показывал им механическую жатку. Вот только пальцы ее все так же сжимали в горсти ткань мужниного сюртука.
Говард кивнул раз, потом другой. На Мэри он не взглянул, и Эмерсон подумал, что рад этому. Затем Говард повернулся к Дженкинсу.
– Я могу забрать нашу часть?
– Да, конечно. Сейчас как раз кончается цикл. Простите, сэр, мэм, – Дженкинс снова приподнял шляпу и поспешил вместе с гостем к полю, по которому, фырча, как живая, и оставляя за собой идеально ровные снопы выпотрошенных стеблей, сноровисто ползала гигантская машина.
Эмерсон с Мэри стояли какое-то время, молча глядя им вслед. А потом вернулись в дом.
Они должны были уехать из Англии. Никакого другого решения не существовало. Эмерсон не уставал повторять себе это, страдая от жары даже по вечерам и отмахиваясь от толстых злобных москитов. Вечер не приносил ощутимого облегчения – напротив, от джунглей, раскинувшихся в полумиле от поместья, начинало тянуть болотистой сыростью и гнилью, навевавшей мысли о кладбище. Говоря начистоту, Эмерсону не нравилась Ост-Индия. И поместье дядюшки Джорджа, этот дом, довольно-таки запущенный, темный и неожиданно тесный – всего на шесть комнат, – не нравился тоже.
Но не уехать они не могли. Год назад Мэри потеряла ребенка. Их первенца, сына, которого они так радостно ждали… Но Бог рассудил, что они недостойны такого счастья. Мэри сама едва не погибла, и доктор сказал, что она не сможет больше иметь детей. Эта весть едва не убила ее. Мэри, его Мэри, раньше такая веселая, смешливая, живая, превратилась в бледную тень себя самой. Она сохранила свою красоту, и даже – хотя Эмерсону было больно признавать это – стала еще прекрасней, чем прежде, ибо страдание привнесло утонченность в ее черты. Но она перестала улыбаться и почти совсем перестала говорить. Она стала сдержанной, чопорной, немногословной – словом, такой, какой и должна быть настоящая леди. Вот только если бы Эмерсону нравились подобные женщины, он бы женился на Патриции Прескотт, как настаивали его родители, а не на этой девушке, которую полюбил когда-то всем сердцем. Он и сейчас ее любил и неоднократно говорил ей, что потеря не разрушит ни их брак, ни их счастье. Он повторял это каждый день уже целый год, и поначалу даже сам в это верил. Он надеялся, что время все излечит.
Но время ничего не излечило. А тут еще мать Эмерсона стала подливать масла в огонь, намекая, что хорошо бы ему развестись – да, это довольно хлопотно и отчасти скандально, но старая леди готова была пойти на такие жертвы во имя продолжения своего рода. Да и Патриция Прескотт все еще не замужем, и кто знает… Все эти бесконечные намеки и разговоры сводили Эмерсона с ума. Тем сильнее, чем чаще он сам ловил себя на подобных мыслях, лежа в холодной постели с молодой женой, отвернувшейся к стене.
Поэтому когда пришло сообщение о том, что дядя Джордж умер, не оставив наследника, Эмерсон воспринял это как знак свыше. Он никогда не мечтал бросить Англию и сделаться фермером в Ост-Индии, но сейчас готов был ухватиться за любую возможность, сулящую перемены. Быть может, смена обстановки пойдет на пользу Мэри, пойдет на пользу им обоим. Они купили два билета на корабль, и через несколько месяцев причалили в Бомбее. А потом их ожидало длинное, утомительное, но по-своему захватывающее путешествие по суше, полное бурных впечатлений и новых открытий. Увы, Мэри осталась равнодушна и к величественной красе Тадж-Махала, и к вычурной роскоши храмов Мурдешвара. Стоило ли ожидать, что ее впечатлит какая-то механическая жатка, пусть и движущаяся по полю сама собой.
Но чего не смогли сделать Тадж-Махал и механическая жатка, то, очевидно, совершил человек с серебряными глазами и протезами вместо руки и ноги. Тем вечером, сразу после ужина, Мэри пошла к себе и почти тотчас вернулась, неся мольберт и коробку с красками и кистями. Эмерсон, увидев это, едва удержался, чтобы не вскочить от волнения.
– Хочу немного поработать. Ты не против? – спросила она, словно робея, и Эмерсон, воскликнув: «Разумеется, нет!», дал ей место у окна, выходящего на поле.
Мэри была превосходной художницей, до свадьбы ей, кажется, даже прочили успех. Будучи беременной, она также часто бралась за кисть, но, потеряв ребенка, совершенно утратила интерес ко всему, в том числе и к рисованию. За время их путешествия по Ост-Индии она несколько раз делала карандашные наброски, но ни один не довела до конца. А вот сейчас вспомнила о мольберте. Эмерсон верил, что это добрый знак.
Он устроился в плетеном кресле с трубкой и газетой месячной давности (других в этой глухомани было не сыскать). Радхика – пожилая индианка, служившая еще дяде Джорджу, – принесла кофе, и Эмерсон пил, курил и любовался поверх газеты женой, наносившей краску на холст быстрыми, отрывистыми мазками. Она стояла к Эмерсону лицом, повернув мольберт к себе, и он не видел, что именно она рисует, зато видел напряженную складку, пролегшую между ее бровями, и сосредоточенно поджатые губы. Мэри никогда не выглядела счастливой, когда рисовала, но Эмерсон знал, что это лишь оттого, как глубоко ее захватывает работа. Отчасти за это – за способность столь полно отдавать себя любимому делу – он ее когда-то и полюбил.