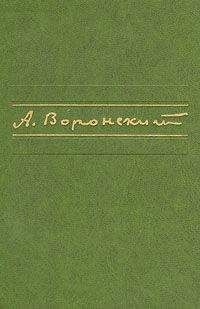Александр Золотько - Бомбы и бумеранги (сборник)
– Нет, – сказала Зоя, – нет, не так!
Обняла меня, задрожала. Она была очень горячая и пахла ландышами и земляникой.
– Ты не раб, Ваня, – зашептала она. – Пожалуйста, не думай так. Не наша вина, что люди рождаются к разным судьбам, Ванечка…
Ее рот накрыл мой, ее тело прижалось к моему, опалив темным жаром, ее рука двинулась вниз. Она сжала ладонь и я задохнулся. Толкнула, опрокинула на траву, потянула, погладила, прижала мое тело своим, не прекращая двигать рукой. Я хрипел, плавился, стонал, исчезал в раскаленной бесконечности. Сквозь листву дуба над нами сияли звезды, все ярче с каждым дыханием, пока не взорвались в моих глазах, выжигая меня в абсолютное ничто.
Зоя замерла на мне, потом поднялась, посмотрела сверху вниз.
– Помни, как я тебя люблю, Ваня, – сказала она. – Отец, как вернется, даст тебе вольную и отправит в Инженерное училище в столице. Ты увидишь Санкт-Петербург, все в мире увидишь, что захочешь. Прощай. Не приходи утром к дирижаблю.
И она оставила меня в темноте опустошенного, разбитого, умирающего.
Я не пошел прощаться. Я взял в кладовой моток веревки, сделал петлю и приладил к дубу. Сидел на ветке, ждал, когда полетят. Дирижабль поднялся над усадьбой плавно, величаво, белоснежные борта сияли на солнце. Набирая высоту и скорость, он уносил от меня мою Зою и надежду, которой, если разобраться, и не было никогда.
Я смотрел до рези в глазах, пока он не стал лишь темной точкой далеко в небе.
– Я – раб, – сказал я сквозь слезы. – Твой раб навсегда, Зоя.
И соскользнул с ветки вниз. Шею обожгло, будто кто-то меня полоснул огненным ножом, но веревка тут же лопнула, я грохнулся плашмя, выбив из груди воздух.
Я лежал под дубом как мертвый, и перед моими глазами клубились темные точки, будто сотня Зой навсегда улетала от меня в сотню Англий.
Шел тысяча восемьсот пятьдесят второй год, Россия развертывала турецкую кампанию одновременно в Крыму и на Кавказе. Царским указом рекрутский набор проходил теперь дважды в год, и брали не по возрасту, как в мирные годы, а по росту – выше двух аршин и четырех вершков.
Дядька Егор сильно затосковал, когда жребий выпал его среднему, Федоту, парню рослому и крепкому, которого по осени собирались женить. Я сказал, что пойду в солдаты вместо него, и в три дня до проводов получил от семьи больше любви, чем в предыдущие тринадцать лет.
Возможно, другой староста и побоялся бы гнева Ильи Владимировича, когда тот вернется и обнаружит, что его лучший механик и детский друг Зои, за которого она просила, будет, если повезет, двадцать лет тянуть вдали солдатскую лямку. Но старостой был сам дядя Егор, и через неделю я уже подсаживался на телегу вместе с Алешей, младшим поповским сыном.
Попадья плакала, а отец Николай смотрел сычом, не утешаясь тем, что все в руце божьей, и особенно солдатский жребий.
– Надо было сказать, что в семинарию собираешься, – сказал я. – По духовной линии кто идет, те жребий не тянут.
– Знаю, – вздохнул Алеша. – Но призвания не чувствую. Так лгать – душу губить. Пирожок будешь? Еще теплый.
Мы ехали на станцию, ели пирожки – мне тоже напекли в дорогу, но Алешины были вкуснее. Разговаривали про серандит, про то, насколько быстрее шел бы прогресс, если бы его можно было добывать больше, чтобы всем и на все хватало. Как его по всему миру ищут, но, кроме Сомалии, нигде найти не могут, да и там все меньше с каждым годом.
Писарь на станции спросил, как меня записать – у крепостных фамилий не водилось, а солдату нужна была.
– Мамонтовым будешь? – спросил Алеша. – Обычно фамилию помещика берут.
Тут во мне впервые что-то затеплилось живое – искра гнева и злости.
– Нет, – сказал я. – Арауто.
Записали Араутовым. Отправили в Грузию.
Пару лет назад отменили правило брить рекрутам полголовы – «лоб забривать», чтоб, если сбегут, ловить было легче, но я каждую неделю ходил к полковому цирюльнику, грустному большеглазому армянину, и брил всю голову наголо.
Я был уже не прежний Ваня из Мамонтовки, а Арауто – суровый, одинокий, умеющий обращаться с оружием. Стрелять я сразу выучился хорошо. Также голая голова спасала от вшей, которых в казарме было никак не извести.
В первый бой нас повели через полгода муштры, я к тому времени уже успел слегка ожить, настолько, чтобы начать бояться. Выдвинулись через перевал под поселок с чудным для русского уха названием Хуло, так я и не узнал, что это по-грузински означало. Ребята у костров шутили про «великий бой под Хулем», пару букв поменяешь – и смеешься, как дурак, чтобы страх забыть, что утром в атаку.
Рассвело поздно, неохотно, было очень холодно. Стояли на холме над огромным полем, заросшим короткой подмерзшей стерней, я по старой крестьянской привычке тут же стал прикидывать, сколькими махинами его пахать и сколько дней, и сколько крестьян надо на динамо поставить, чтобы серандит ночами заряжать. Досчитать не успел – прапорщик прокричал сигнал к атаке. Турков видно не было, но мы и до середины поля добежать не успели, как их артиллерия ударила. Стреляли шрапнелью, но неметко, положили пару десятков, остальные бежали лавиной.
И тут из-за холма с их стороны выехали четыре невиданных боевых махины – каждая размером с ярмарочный шатер, все в тяжелой броне, с шестью пушками, ощетинившимися кругом. Эти стреляли мощно, шли быстро, воздух наполнился криками раненых и умирающих. За ними виднелась турецкая пехота, наступавшая медленно, не сбивая строя. Когда до нас дойдут, то им останется лишь перешагнуть через наши трупы, выкошенные прицельным огнем бронированных пушек. Наша артиллерия тоже открыла огонь, но пехота была еще слишком далеко, а у новых махин броня была крепкой.
Это была английская новинка, названная «черсиной» по имени африканской черепахи с крепким панцирем. Такие чертил еще Леонардо да Винчи, двигать ее должны были изнутри четверо силачей. Но столетия назад силачей не хватало, махины не построили. Теперь в них стоял новейший серандитовый движитель и весь экипаж в промежутках между залпами накручивал ногами рычаги зарядного динамо.
Англия, играя в свою Большую Игру в Европе, продала Турции пробную партию «черсин» – и они нас убивали. Политика, дипломатия, прогресс, мощь человеческого разума – все они сошлись в одной точке, чтобы я лег сейчас на эту стылую, чужую землю и залил пожухлую стерню своею кровью, как это делали товарищи вокруг меня.
– Отступаем, – крикнул прапорщик, – отсту…
И не закончил, потому что грудь ему прошило шрапнелью, я видел, как ткань выворачивалась, разрываясь. Рядом скосило Алешу, щека его лопнула, глаза полезли из орбит, и тут меня самого будто развернуло невидимой рукой и вниз толкнуло. Земля поднялась стеной и ударила меня по лицу – колкая, холодная. Потемнело всё, будто ночь упала, и в груди огонь занялся, все сильнее жег, как уголь из печи, казалось, вот-вот запах паленой плоти почувствую.