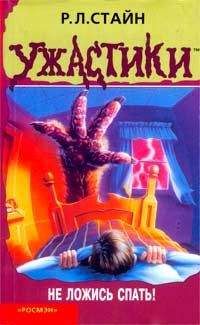Ника Ракитина - ГОНИТВА
– Р-рощиц, – сказал Тумаш почти спокойным голосом. – Он меня преследует.
Грохнуло снова. Заметалась под ногами лестница. Со звоном разбилось то, что уцелело при прошлом залпе.
– С Трехсвятской горы, – определил Айзенвальд.
– Умгм… Гелгуд заволок батарею на Понары, – произнес Тумаш радостно. Через час-два Вильня будет наша.
Генрих хмыкнул:
– Таки лично волок?
Занецкий смешался.
Из-за высокой створки никем не охраняемых входных дверей они выглянули на залитую солнцем площадь. Какие-то четверть часа назад она, как и извилистые улицы старого города, была под завязку полна кавалеристов, груженых подвод, мятущихся с узлами беженцев; все куда-то бестолково спешили, сталкивались, путались… над толпой витали заполошные крики, цокот подков, щелканье кнутов, команды, слухи один страшнее другого, которые усиливали эту путаницу и шум. Сейчас улицы вымерли. Только валялся мусор и блестело битое стекло.
– По стеночке, по стеночке, – сказал Айзенвальд. Грохнуло и засвистело над головой. Они, пригибаясь, обогнули ратушу и остановились там, где клубок переулков скрещивался с улицами Замковой и Большой и где Ян стерег коней.
– Мне с вами?
Айзенвальд покачал головой.
– Тут скорее священник нужен!
Тумаш, помедлив, протянул руку бывшему хозяину:
– Уд-дачи в-вам, Генрих.
– И тебе. Куда сейчас?
– У нас отряд… с-студентов… мы пойдем на Трехсвятскую, на прорыв.
Он еще раз попытался отряхнуть сюртук, сглотнул при очередном взрыве, потряс головой:
– М-может, п-переждешь?
Айзенвальд прикрыл глаза: словно глядел куда-то, куда обычным взглядом не заглянуть:
– Только бы она продержалась. Морена…
– Что?
– Морена – это смерть.
Крейвенская пуща, два года назад
Алесь сидел на корточках на кромке берега, ломал по закраинам подмытый водою лед, льдинки частью складывал в горку на берегу, точно намереваясь позже составить из них слово "вечность", частью же пускал плыть по течению. В зеркале очистившейся воды отражался цветущий шиповник. Волны, набегая на берег, лениво шелестели, выносили на песок белую пену, ил и кусочки янтаря.
– …белая пена – жизнь, а красная – смерть…
– Вы что, думаете, меня можно притянуть заклинанием, как козу за веревочку?
Алесь вздрогнул и резко встал. Отряхнул ладонью голенища сапог и колени.
Гивойтос спускался к нему с обрыва, придерживаясь за метелки травы, из-под ног с шорохом сыпались мелкие камешки. Это его превосходство в положении почему-то рождало в душе Алеся шершавый осадок – как от попавшего в горло песка.
– Все было проще. Жвеиса и его людей заманили в засаду, была драка в лодье и на берегу, много крови пролилось… Но совсем не здесь. Здешний замок князь построил для Эгле. Только от него мало что осталось.
Ужиный король улыбался. Зубы у него были неожиданно ровные, и улыбка красивая, только и она князя раздражала.
– Доброе утро, Алесь Андреевич.
– Не могу пожелать вам того же.
– Тогда зачем вы приехали?
– Требовать справедливости!
Гивойтос шагал впереди вдоль кромки берега, огибая холм, поросший навечно согнутыми ветром золотистыми соснами с раскидистыми вершинами. Запах хвои мешался с запахом шиповника, шуршал песок под сапогами. Витающий в воздухе сладкий аромат приводил Ведрича в ярость. Здесь всегда цветет шиповник. Ну конечно, как же иначе! А скудные крестьянские посевы пусть скручивает от внезапной жары, или выбивает градом… Открылась мраморная лестница, ведущая на обрыв. Щербатые ступеньки лезли вверх среди густых папоротника и крапивы, каких-то лохматых кустиков и юного чернолесья; перил вовсе не было. От крутизны перехватывало дыхание.
Наверху было много света. Так много, что хотелось какое-то время стоять зажмурившись. А потом взглянуть на разлапистый дом, стены которого были выложены серыми плитами, а стекла в частых переплетах казались черными, как бездонная вода. Фронтоны изгибались петушиными гребнями, крыша, увенчанная короной печных труб, была похожа на костлявую драконью спину.
Вдоль стен, обрамляя окна, тянулись кверху сухие плети дикого винограда, красно-коричневые листья загибались по краям. Дом выглядел неухоженным и прекрасным в своем увядании. Клумбу перед искрошившимся крыльцом устилало толстое одеяло палых листьев. Обе стороны крыльца вместо привычных львов украшали симарьглы – каменные псы с позеленевшими, как старые церковные шпили, медными крыльями. Они были похожи, как близнецы – с пятнистыми замшелыми спинами, приподнятыми цепочкой позвонков, с приоткрытыми черными губами и спаниельими ушами, падающими на глаза. И при этом оставались разными: один словно дремал, положив брылястую голову на лапы, прикрывшись крыльями и поджав пушистый, точно беличий, хвост. Второй приподнялся, в позе жадного любопытства осев на зад, правое ухо и правое крыло словно смахнуло в сторону ветром, а глаза, сделанные из ярких камешков, весело сияли навстречу гостю.
Присев на цоколь под мифологическим зверем, Гивойтос стал задумчиво набивать трубку. Ведрич взошел на крыльцо, наконец-то (наконец-то!) оказавшись выше хозяина, увидел расставленные вдоль балюстрады обрамлявшей дом галереи разноцветные герани в горшках. На фоне серых плит пола цветы казались охапками круглого пламени. Алесь вспомнил о находящейся где-то здесь Ульрике и кисло сморщился.
– Вы должны быть с нами, Ужиный Король.
– Племянница… Нетрудно догадаться, – так же неторопливо, как только что набивал трубку, Гивойтос выколотил ее о постамент, поднял на собеседника серые, словно гусиные перья, глаза: – Будьте добры, молодой человек, уточнить, кто такие эти "мы".
– Все честные люди. Патриоты Лейтавы.
– Вы не могли бы назвать имена?
Ведрич сжал в карманах кулаки, стукнул ногой по каменному столбику балюстрады, ушибив пальцы:
– Вы надо мной издеваетесь?
– Совершенно верно. Как много она вам рассказала?
Князь пожал широкими плечами.
– С детства меня учили, – произнес он с горечью, – что гонцы – лучшие среди людей, защитники и святые. Поборники веры и справедливости. Охранители соборности и державности. Приученные слушать тихий голос родной земли, и доносить его до тех, чей слух не столь тонок. Чувствовать ее заботы и тревоги. И ради нее пойти на виселицу, на дыбу, на плаху. И повести за собой других. Они были среди тех, кто превозмог татар под Койдановым и Крутогорьем, остановил при Грюневальде тевтонских рыцарей…
Он остановился, пораженный тихими икающими звуками, повернулся к Гивойтосу. Глаза у того были закрыты, уголки рта и щека дергались на запрокинутом к небу лице, казалось, Ужиный Король плачет. И лишь минуту спустя Алесь понял, что тот смеется, всхлипывая, едва удерживая в себе безумный гомерический хохот. Князь пнул ближайший горшок с геранью, тот опрокинулся и лопнул, выпуская из себя струйку земли. Упал набок скомканный розовый цветок.