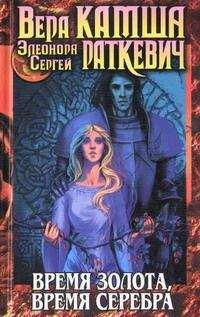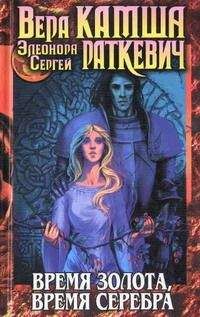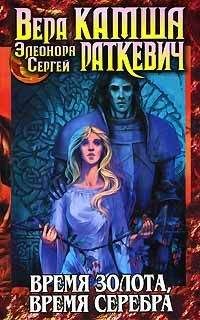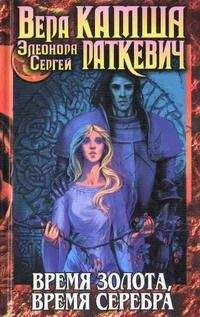Сергей РАТКЕВИЧ - Девять унций смерти
— Не надо ножом. Так удавим. Вон, видишь — крюк? Пусть думают — сам повесился, — слышит он шепот на чужом языке.
Он силится вспомнить, что это за язык, почему-то это кажется важным, но вспомнить так и не удается. Это последнее, что он слышит в жизни.
* * *
Профессору полегчало неожиданно. Как-то утром, заглянув к нему, Шарц обнаружил его сидящим на постели и играющим в шахматы с одним из стипендиатов самого Шарца.
«Вот так, значит, да? Доктор говорит лежать, и мы лежим, постельный режим соблюдаем, доктора слушаемся… пока он не закрывает дверь и не уходит. Может, мы еще и на виоле играем?»
— Это еще что такое? — грозно нахмурился Шарц.
— Шахматы, коллега, — с беспечной улыбкой откликнулся профессор. — Неужто вы не знакомы с этой увлекательной игрой?
— Профессор, — ухмыльнулся Шарц. — Дело не в шахматах и моем с ними знакомстве, а в том, что кто-то здесь постельный режим нарушает…
— Не может быть! — возмутился профессор Брессак. Глаза его радостно блеснули. — Кто этот мерзкий негодяй? Покажите его нам! Мы его тут же в шахматы обыграем!
Студент тихонько фыркнул и покачал головой.
— Профессор… — укоризненно промолвил Шарц. — Я вот Эрмине пожалуюсь. Все про вас расскажу, как вы себя ведете.
— А я скажу ей, что именно по вашей милости она лишена возможности слушать мое музицирование! — парировал профессор.
— Сильный аргумент, — кивнул Шарц. — Тогда мне придется упомянуть ей, что именно из-за ваших нарушений режима она столь давно не была на прогулке именно с вами, а также лишена возможности посещать университет и украшать перерывы между лекциями своими восхитительными оперными ариями!
— Все! Я сражен! — вздохнул профессор, подымая руки в знак поражения. — Эрмина мне этого никогда не простит!
Шарц посмотрел на профессора самым укоризненным из своих взглядов.
— Ну доктор, ну пожалуйста, ну еще чуточку! — взмолился профессор. — Вот только партию доиграю и…
— Никаких партий… — начал Шарц, — а, впрочем, ладно… — тут же добавил он, присмотревшись к позиции, — все равно вам через два хода — мат, коллега!
— Ваш стипендиат отлично играет, — кивнул профессор. — Я получаю истинное наслаждение от борьбы с ним. Впрочем, думаю, что продержусь несколько больше, чем два хода…
Когда же по окончании партии Шарц обследовал профессора, то позволил ему еще одну. И даже встать ненадолго разрешил. А сам с облегчением подумал, что кризис миновал. Еще немного, и коллега потребует свою трость, чтобы пройтись, а там и в университет засобирается.
Он уж намеревался откланяться, когда появилась мадам Брессак с подогретым вином, которое неизменно подавали в этом доме, и Шарц решил задержаться. Заодно узнал, как это профессора угораздило жениться на барде.
— Он чудесно играет на виоле, просто чудесно, — поведала Жермена. — Я хотела затащить его в свою труппу, а вместо этого вышла за него замуж!
Она покачала головой, словно бы сама себе удивляясь, как это с ней такое приключилось…
— Староват я уже на ярмарках плясать! — отрываясь от шахмат, заметил профессор.
— Староват! — фыркнула его жена и, обернувшись к Шарцу, добавила: — Этот старик трех молодых загонит!
— Ну что вы, мадам, — усмехнулся Шарц. — Какое — трех! Как его бывший студент, смею заверить — гораздо больше!
— Вам мат, профессор! — объявил студент-гном и, не сдержавшись, хихикнул.
Уже закрывая за собой калитку этого гостеприимного дома, Шарц вдруг ощутил смутное беспокойство.
«Что-то не так? Может, рано он позволил вставать профессору?»
«Да нет, — тут же оборвал он сам себя. — Это не беспокойство лекаря. Это… это какое-то другое беспокойство…»
Другое.
Шарц оглянулся по сторонам, и беспокойство тут же исчезло. Не улеглось постепенно, как это обычно бывает, а пропало, точно ножом отрезало. Или даже не ножом, а справным таким гномским скальпелем… в одно касание.
Так-так-так… очень интересное дело. Давненько с ним такого не случалось. Это не тревога за чью-то чужую жизнь, не ледяное дыхание смерти, которую нужно остановить во что бы то ни стало, это совсем другое.
И принадлежит эта тревога вовсе не олбарийскому лекарю сэру Хьюго Одделлу. Она гораздо старше. Единственный, кто имеет на нее законное право, — петрийский лазутчик Шварцштайн Винтерхальтер, «безбородый безумец» и «последняя надежда всех гномов Петрии».
И означать это подзабытое уже чувство может только одно — за ним минуту назад наблюдали. Следили. Не просто скользнули равнодушным взглядом, проходя мимо, не поглядели с праздным интересом, как на еще одну местную достопримечательность, не уставились от нечего делать, когда в общем-то все равно куда пялиться… Нет, все не то! Радостным взглядом узнавания это тоже не было.
Наблюдение. Слежка. Внимательная и аккуратная слежка. Они перестали тут же, едва заметили его беспокойство! А значит — мастера следили. Хотя… следи за ним настоящие мастера — это еще вопрос, почуял бы он что-то или нет? А значит, уровень этих неведомых соглядатаев не выше его собственного.
«Да полно! Кому я нужен?» — попытался сам себя образумить Шарц, а напряжение не отпускало.
«Была, была слежка! — бурчал лучший петрийский лазутчик Шварцштайн Винтерхальтер, тяжело ворочаясь на дне памяти олбарийского доктора. — Что, коротышка, опять я тебе понадобился?»
«Бред все это!» — пытался упорствовать олбарийский лекарь.
«Ага, как же, бред! — ехидно откликался лазутчик. — Ты, коротышка, совсем со своей медициной жиром заплыл, ни черта не видишь, не слышишь, а хуже того, знать ничего не хочешь, кроме своих пациентов! А за тобой наблюдали, вот! Только что наблюдали. И оч-чень недобрым взглядом, должен отметить, оч-чень… И что с того, что это длилось несколько мгновений? Чем меньше, тем хуже, коротышка… я надеюсь, ты еще не забыл это? Они нас видели, а мы их нет, понимаешь? У них есть какая-то информация, а мы ничего о них не знаем…»
Шарц припомнил времена, когда, шатаясь по темным ночным улицам Марлеции, он точно так же испытывал тревогу от пристальных взглядов в спину. Но тогда он боялся, что кто-нибудь все же опознает в нем гнома. Тогда его настораживал любой пристальный взгляд. Теперь же ему нет нужды прятаться, да и день сейчас, а не вечер.
«Ну, а если кто-то решит меня ограбить, то пусть попробует, я ему потом даже медицинскую помощь окажу!» — решил Шарц.
А напряжение не отпускало. Петрийский лазутчик упорно просился наружу, решительно отказываясь признавать себя «бывшим».
Шарц нарочно свернул в самый что ни на есть глухой переулок, почти надеясь, что его все-таки попробуют ограбить, и был страшно разочарован, когда этого не случилось.