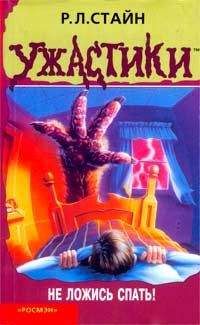Ника Ракитина - ГОНИТВА
– Правую руку не трогай.
Подергал путы. Обтер смоченной в водке салфеткой собственные руки, шрам на запястье гонца и скальпель.
– Лампу ближе, пожалуйста. Эх, все равно темно!
Генрих метнул в него странный взгляд, снял стекло. Завоняло маслом и горящей коноплей. Огонь был так близко, что Тумашу показалось, волоски на его запястьях скручиваются от жара. Он перекрестился и сделал надрез. Женщина дернулась, и тут же порыв ветра распахнул раму. Хряпнулся об пол горшок с бальзамином, запахло кладбищем. Мир вздрогнул и потек.
А потом – будто сложили два стекла с картинками, и в свете "волшебного фонаря" на стену упали почти совпавшие тени.
Вот призрачная дверь с проступившим сквозь нее узором шпалер.
Вот окна с грозой. Портьеры – одни просто раздвинуты, а двойники – сорваны, точно людям из прошлого тоже не хватило света.
Кушетка со свежей постелью в углу: такой здесь нет.
Знакомый секретер времен завоевания (в тигровых разводах, с гнутыми ножками и потрескавшимся лаком) сдвинут на середину комнаты. Над откинутой крышкой призрак бледного адъютанта в голубой с синей выпушкой форме блау-роты – трясется рука с занесенным карандашом. У локтя горит лампа. Та же, что держит Айзенвальд. Цветное, пронзительное пятно.
Из ряда стульев вдоль стены выхватили один, дыра – как выбитый зуб (при этом в виленском доме стул на месте), сорокалетний каратель оседлал его и положил на спинку подбородок.
Смутная фигура подпирает спиной разжаренную печь-саардамку с жар-птицами по глазури – вжимается ладонями в кафель, будто защищается от мороза. И звякают на полке над дверцей бокалы из старого радужного стекла.
А обитое кожей массивное кресло перетащили к секретеру (туда, где в этом мире стоит кровать), и домотканая дорожка непристойно завернулась под ним, точно юбка на покойнице. В кресле – Северина. В темном платье, и руки связаны. И в такт дзыньканью бокалов скачут тени: серое – цветное – серое; прошлое – настоящее – прошлое. И прорываются голоса.
– Нельзя же так… Скажите им всё, Северина!!
– Матолек! Пошел вон! – это кричит на Игнася Лисовского офицер, что прячется за спинку стула. Он зол: офицеру не нравится его работа. – Нашелся… деликатный. Панна Маржецкая, я спрашиваю: где документы?
Молчание.
Звякают на полке бокалы, трещит в лампе фитиль. Время остановилось. Серое.
– Панна Маржецкая, не принуждайте меня, я тоже человек…
– Скажи им!…
– Иуда.
Если руки связаны – откинутую крышку секретера можно толкнуть плечом. Лампа летит – бьется стекло, растекается масло, и огонь взмывает над половицами.
У Айзенвальда хватило хладнокровия прибить огонь одеялом и затоптать разбегающиеся огненные змейки. Хрустнув осколками лампового стекла, он склонился к Северине. Та сидела с закрытыми глазами; путы лопнули, будто гнилые. Айзенвальд, баюкая, прижимал женщину к себе, пока каменное напряжение не ушло из тела и Северина не заснула, дыша глубоко и ровно.
– Пан Занецкий, перевяжите.
– Черт… Матка Боска… Я же мог ее убить…
Руки Тумаша тряслись, он несколько раз промахивался с бинтом. Локтем подхватывал воду, каплющую с волос – лакей слегка промахнулся, заливая пламя.
– Выпейте, – Генрих протянул ему графин с остатками водки. – Ян, окно закрой, а ковер сверни и выкинь.
Студент опрокинул графинчик в себя и икнул:
– Инструменты!
Сталкиваясь лбами, кашляя от копоти, они с лакеем стали собирать с мокрого прожженного ковра Тумашево имущество.
– Пан Занецкий, то ваше? – синеглазый Ян держал в одной руке днище злосчастной лампы, а в другой истлевший по краю зелено-бурый бумажный ком.
– Гадость какая, – студент снова икнул, – выкинь! Нет, дай сюда. Что здесь написано?
Он повертел ком и так, и сяк, пытаясь хоть что-то разобрать из ветхих, тронутых ржой и плесенью страниц.
– Хрен поймешь! Списки какие-то старые…
– Дайте сюда, – руки Генриха тряслись. – И идемте в кабинет, вам нужно переодеться. Ян, доубирайте здесь, пожалуйста. Если что – зовите меня.
Айзенвальд, точно стеклянную, притворил за собой белую с золотом дверь кабинета. Вытащил из комода для Тумаша сухую рубашку. Бумаги положил на стол. Сам же присел на край подоконника, локтем распахнул раму, глубоко вдохнув запах мокрой зелени. Дождь, заставляя жмуриться, брызгал ему в лицо.
– Хотите выпить?
– Ага.
– Если не трудно, вон там, в секретере, бутыль. И стаканы.
Они, не чокаясь, выпили. Раскрасневшийся Тумаш рухнул в глубокое кресло у стола.
– Как подумаю… пане Боже… Что это было?!
– Лискна. Маенток, где убили Северину Маржецкую.
– А тот, что уговаривал ее все сказать, ну, тот, что печку подпирал?
– Разве вы его не узнали? Мы же вместе видели в ратуше, ваш любимый Рощиц, "знаменитые генералы Лейтавы". Поясные портреты в медальонах. Игнат Лисовский, член комитета "Стражи" и национальный герой.
– Не вяжется, – с пьяной убежденностью изрек Тумаш, – не так все это было.
– А как? – сидя на подоконнике, Айзенвальд глотал драгоценную "Трис дивинирис" – подарок Коти Борщевского, – как воду; только стакан дрожал в отставленной руке. – И что должно вязаться, если бросая обвинения в предательстве мертвой панне Маржецкой, никто никогда не пытался обратиться к логике? Даже вы, математик, вы – один из немногих, кто как-то посмел ее защищать.
– Ну-у, давайте обратимся, – Тумаш посмотрел на свой стакан. – Ох, голова кружится…
Айзенвальд вынул из ящика стола пузатую сахарницу мейшенского фарфора, поставил перед Тумашем. Студент кинул в рот горсть сахара, захрустел, блаженно закатывая глаза, перекрывая рычащий за окнами гром.
– Так как это, по-вашему, было?
Занецкий выпрямился со страдальческим выражением на лице:
– Ну-у… панну Маржецкую комитет отправил с депешами – то ли списками повстанцев, то ли с тактическими наметками и планами. Но она эти депеши передала Айзенвальду – за что пан Лисовский ее и застрелил.
– Где?
– Что "где"? А, в Лискне, своем имении. Она к нему заехала по дороге.
– По дороге куда?
– Не знаю, – Тумаш потряс сахарницу, точно надеялся вытрясти ответ. – Куда комитет с депешами отправил.
Точно вознаграждая себя за муки, юноша бросил в рот очередную горсть сахара.
– Очень интересно, – Айзенвальд стукнул костяшками пальцев по подоконнику. – Только вот возникают два вопроса. Первый. Откуда Лисовский узнал, что она документы мне вручила? Подглядывал в окно? Вопрос второй. Если они уже переданы – какой смысл панне Маржецкой уезжать из Вильни и, тем более, заворачивать в Лискну?
Он с силой потер ладонями переносицу.