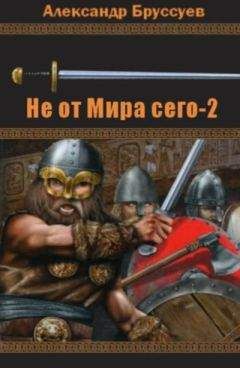Александр Бруссуев - Не от мира сего-3
Впрочем, к делу определения погоды в совершенно другом регионе, эта штука не имела отношения. Разве что косвенное.
В полушаге от нее в небольшие углубления в ровном, будто даже полированном каменном полу, собралась вода, глубиной в средний палец руки, шириной — в средний палец ноги. Шутка: площадью с донышко от ведра. Не сказать, чтобы жидкость была прозрачной, но, вероятно, если бы она оказалась в состоянии покоя, то таковой бы и сделалась: осели бы примеси, имеющая запас плавучести пыль собралась бы по краям. Но вода постоянно волновалась, словно бы бурлила. Или сквозь нее просачивались микроскопические пузырьки воздуха, либо она четко улавливала странную вибрацию, исходящую от дна этой лужицы. Не зря же пол именно здесь был, словно нарочно, идеально гладкий.
— А если высохнет эта лужа? — сразу же спросил Садко, будто этот вопрос волновал его больше всего на свете.
— Ну, тогда надо с собой воды принести, — ответил Царь.
Лив сразу же представил, как тащит сквозь скалу ведро с водой, застревает и делается каменным гостем.
— А разве можно протащить что-то, отдельное от тела?
— Господи, — возмутился гуанча. — Воду можно пронести и в теле.
Ага, теперь понятно, почему она такая мутная — она подпитывается производными человеческих организмов, разве что запах ветром развеялся. И вот именно эта жидкость, оказывается, является индикатором погоды у Исландии. Сейчас она представлялась мелкой рябью.
— Видишь? — показал пальцем на лужу Царь. — Волнение небольшое. Можно ездить, но нельзя подставлять борт — иначе обязательно захлестнет.
— А как будет от музыки? — поинтересовался Садко.
— Как зеркало, — пожал плечами гуанча. — Ну, я пошел. А ты следи, как следует, только не наследи.
Ну, да, ну, да. Едва Царь скрылся за поворотом, музыкант пошел осматриваться поблизости, выбрав направление, откуда дует ветер и сразу же вышел в какое-то просторное помещение. Посмотрел по сторонам и чуть до потолка не подпрыгнул: вокруг полусидели-полулежали человеческие тела. Жизни в них не было ни капельки — это сделалось понятно с первого же взгляда.
Завернутые в овечьи шкуры, таким образом, чтобы мех их был наружу, перетянутые ремнями, образующими скользящие петли, выглядели они жутковато. Освещение, вполне достаточное, чтобы наблюдать за погодой в луже, окрасило открытые участки тела трупов: кисти рук и ступни ног, лоб лица — в мертвенно желтый цвет. Если бы цвет был жизнеутверждающим розовым, либо зеленым — было бы еще страшнее.
Садко перекрестился, пятясь, и решил вернуться к своему наблюдательному посту. Едва не наследил! Он провел рукой по лицу, чтобы смахнуть пот, проступивший от внезапной встречи с покойниками, и с удивлением обнаружил, что в руке он держит объемный кувшин с ручкой и наглухо закрытой крышкой. Вряд ли он использовался кем-нибудь из почивших, как ночная ваза. Значит, содержимое должно быть вполне пригодным для того, чтобы живые его попробовали и при этом не сделались мертвыми.
Музыкант вскрыл кувшин и принюхался. Чистой колодезной водой и не пахло. Зато присутствовали ароматы вполне настоявшегося вина. Он обмакнул палец и осторожно коснулся его языком — вино, как вино, в уксус не превратилось. Ну что же, не напрасно все-таки руки сделали ему такой подарок. Садко сделал глоток и порадовался: по жилам заструился огонь, а живот стал его концентратором. Приятный напиток, голова слегка кружится, можно думать о своей значимости. Где-то у дырки в неизвестность дерет струны Царь. Вообще-то получается у него неплохо, вот только слишком уж академично. Какая-то официальная музыка у него удается, строго в рамках дозволенного. Если и вкладывает в свое искусство душу, то душа эта — душа правителя. Садко внезапно вспомнил, зачем он здесь.
Приглядевшись к поверхности лужи, ничего нового для себя не заметил: волнуется жидкость, колеблется. Вроде бы так же было изначально, а Царь обещал, что спокойнее станет. Лив пожал плечами, сделал из кувшина маленький глоток и неожиданно задержал его во рту, не торопясь проглотить. Напротив, он, сомкнув губы, попробовал распылить вино над водой, как это иногда делают, поливая цветы, чтобы мельчайшие капельки равномерно покрыли листья дорогого сердцу цветка. Зачем он так сделал — сказать бы не смог. Но достигнутый эффект впечатлял.
До самого кристалла образовался туман из мелкодисперсной водяной, хотя, правильнее — винной, пыли. И его не сносило сквозняком, он завис, как северное сияние, переливаясь и помаргивая. Садко пригляделся и увидел, что этот туман, как мираж, показывает волнующееся море. Да что там волнующееся — море бесновалось: клочья пены срывались с верхушек огромных, как горы, волн, те бились между собой, порождая чудовищные водовороты, в которые затягивало дракар с бородатыми людьми, отчаянно гребущими в нем веслами.
«Так это же Морской Царь разбушевался!» — словно ушат холодной воды за шиворот. Садко бросился к гуанче, на ходу соображая, как же ему поступить с сановной особой: прикоснуться к нему нельзя, накричать — тоже. Ничего нельзя. Можно только ждать, когда тот сам догадается прекратить игру.
Царь очень четко выводил «Богемскую рапсодию», кивал в такт себе головой, полузакрыв глаза. Все — это транс. Из него вывести можно только лечебным отрыванием рук. Не от тела, а от инструмента. Но Садко, неожиданно нащупав в кармане свистульку, подаренную Санта-Клаусом, поступил по-другому. «Ну, Микола Можайский, не подведи!» — почему-то по-слэйвински обозвал он святого. И засвистел, как ему подсказывала душевная гармония.
Для любого гуанча свист — сигнал, который нельзя пропустить мимо ушей. Но для царственной особы — можно, разве что свист искусно вплетается в исторгаемую музыку. Через некоторое время он начинает вести сольную партию, которую поддерживает аккомпанементом кантеле. Царь продолжает играть, но уже с открытыми глазами: он понимает, что куда-то сваливается с затеянной им композиции. Наконец, финал — Царь последним перебором струн ставит точку. Садко отнимает свистульку ото рта и встряхивает головой, как собака, только что вылезшая из речки. В стороны полетели капли пота с бровей, бороды и усов.
— Ты чего? — спросил Царь, весь еще такой неземной, весь еще в музыке.
Лив почему-то не стал отвечать, а, развернувшись, живо поспешил к заветной лужице. Точнее, к тому винному миражу, что так до сих пор и висел над поверхностью жидкости. Отраженное в нем море успокаивалось, дракар с обломанными веслами, вырванной мачтой, монотонно вздымался на горб очередной волны и неспешно скользил по ней вниз. Людей видно не было. Вероятно, они сейчас вповалку валялись на палубе и молили Морского Царя, вознося ему хвалу за спасение.