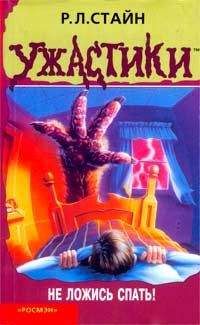Ника Ракитина - ГОНИТВА
Мирек хмыкнул:
– А чего мелочиться… – и удостоился свирепого взгляда от брата.
– На Шеневальд Гелгуд не пойдет, – поцарапал стол задумчивый Домейко. – Там горы, горные речки, опять же, дикий лес. Там немцы волками за себя будут грызться. И будет с Гелгудом, что с Брюнебергом в 1793 сделали Кантоны.
– А что они с ним сделали? – спросила Франя.
Кузены зашикали и показали ей страшные глаза.
– Только на Вильню, панове!
– Столицу брать не значит войну выиграть, – посопел кудрявый Мись. – Вон Бвонапарта поперли в 1812 из Санкт-Эльзбурга, так и не высидел ключей.
– Оно, конечно, так, армию сберечь важнее, но взять столицу – вопрос престижа, чести, взбодрит патриотические настроения. Тем более, наша она столица, а дома и стены помогают. Верно? – пан Кароль закрутил ус.
– Вильня от Лиды недалеко, но и сопротивление там ожидается самое свирепое… – пробормотал Домейко. – Маловато людей у Гелгуда…
– А как бы вы на его месте поступили, пан Игнат?
Домейко пощипал новорожденные усики:
– Я бы соединился с Хлоповским, – и стал поочередно загибать пальцы, поясняя преимущества.
Хлоповский был один из тех патриотов Балткревии, что на "ура" приняли известие о восстании в Лейтаве и настаивали на оказании инсургентам немедленной помощи. Как обычно, правительство Балткревии тянуло кота за хвост, и убедившись в его нежелании предпринять открытые действия против оккупационных войск Шеневальда в Лейтаве, Хлоповский на собственные деньги собрал и вооружил конный корпус и пересек границу на собственные страх и риск. Попадись Хлоповский в руки немцов, он не подпадал под статус военнопленного и был бы расстрелян, как мятежник. Но в плен, похоже, командир не собирался, наоборот, в бою под Омелем разгромил бригаду генерала Линдена и теперь двигался на север, в сторону Менеска, присоединяя по пути разрозненные отряды инсургентов. При Хлоповском находилось шесть конных сотен и среди них семьдесят инструкторов, а значительные силы и опыт дорогого стоили.
Залусский хлопнул лапищей по столу:
– Решили. Гелгуд не дурак, допрет до того же. А вот что немцы станут делать, а?
– Соединиться им помешать вряд ли успеют. А вот когда подкрепления привезут – может, даже морем – уверяю, панове, мало нам не покажется.
– Морем? – покусал ус пан Кароль. – Положим… Морем они подвезут войска в Либаву и Ниду. А дальше начнут сплавлять на баржах по Нямунасу до Ковна? Или из Риги по Двайне до Двайнабурга, чтобы в тамошней крепости ударный кулак собрать? – он повертел башкой. – Против течения?… Ну, пусть даже пароходную флотилию соберут. Все равно дело гнилое и медленное. Да с берегов конницей на скаку зажигательными бомбами закидать их баржи… Через Берестейко Литовское? Так там Полесье, сплошные болота. Верховые, низовые… Непроходимые. Тем более сейчас, в разлив. Дорог никаких, а что были – те размыло. И остается самое надежное и быстрое – железная дорога. И людей перевезти, и орудия: дешево-сердито. Тут все станции узловые – Ковно, Троки, Вильня, Двинабург. И ветка на юг к Омелю. Как раз к Хлоповскому. Тут бы и я кулак из войск собирал – может, и не в самой Вильне, так в Ковне либо Троках. Как, хлопцы?
– Ну, и немцы соберут. А мы что? Станции нам не взять, – вздохнул румяный Леон Потоцкий, еще один из виленских студентов, ушедших в лисовчики. – Наших две тысячи с половиной, из них четыре пятых – мужики с косами и вилами, как раз считай против их регулярного войска – один к десяти выйдет.
– Будем плакаться? Или все же Гелгуду помогать? С ним всего-то тридцать верных человек было – а крепость взял! И Вильню возьмет… если мы поможем!
Офицеры одобрительно загудели.
– Дома стены помогают, – басил Залусский. – Так давайте будем им с Хлоповским теми стенами! Крупную станцию с нашими силами не взять, это ты, Леон, верно говоришь. Но в распутицу пути, окруженные болотами, не сторожат. Пройдем. На железную дорогу сядем, рельсы на несколько верст взорвем или разоберем – и пусть себе едут… – Кароль ехидно подмигнул, раскидывая медвежьи объятия: должно быть хотел показать, каково в них придется подъехавшим немцам. – Армия, даже большая – на марше не то, что в бою. Так покажем им дулю с маком. А?! А к Гелгуду эмиссара пошлем, чтобы разом ударить.
– Неохота через трясину… Мроит там. Все говорят. Встала Гонитва.
– Раз козе смерть. Со святым крестом да с Паном Богом! Панна гонец, взгляни сюда, – Залусский широкой ладонью указал на карту. – Место знаешь, где нам лучше идти?
– И место, – раздельно ответила Гайли, – и проводника. Вот тут, где все началось – Случь-Мильча. Тут Хотетская гребля, а тут Доколька, полустанок. Вокруг сплошные болота. Тут и надо на путь садиться. Только, можно, я посоветую? Кароль, оставь отряд отвлечения. Пройдемся у немцов по тылам, склады отобьем, казну или почту, опять же. Конница в болоте не слишком пригодна, а для этого в самый раз. Пусть думают, что мы все здесь.
– Разумно. А ты, что же, со мной не пойдешь?
Гайли дернула щекой. Кароль… пожалуй, понял бы… что ее долг – быть там, где труднее, чтобы расплатиться. И перед мертвыми, и перед живыми. Но лучше ему пока не знать, кто она на самом деле. Никому лучше не знать.
А как совет закончился, пан Залусский отозвал Гайли в сенцы и пристал снова:
– Объясни ей, панна матухна, девицы в войске не нужны. А то парни, как кочеты, вьются, порубать друг друга али постреляться за ясные очи готовы. Я уж их еле держу. А для нас дисциплина – главное.
Гайли мимолетно позавидовала простушке Цванцигеровне, хотя зависть – смертный грех. За Франю парни готовы на двубое биться или в сено завалить, а на Гайли-гонца косились, как на писаную торбу, приседали и кланялись. Потом вроде пообвыклись, когда она к костру садилась и кашу наворачивала из одного котелка. Но как глянут на звездочки у нее на лбу – сразу и задумаются.
– А раненых лечить?
– Так в любом фольварке любая черная панна[58] за это возьмется. Да пойми ты, недосуг мне малолетку сторожить! А как убьют? Или того хуже… – усач заполыхал. – Какие раненые. Она ж в бой рвется. Тебе я не указ, но убери ее!! Под любым благовидным предлогом убери. Так не уйдет.
Кароль занимал собой все пространство сеней – заматеревший с возрастом, широкоплечий, огромный. Пах потом и кожей амуниции. И на мгновение Гайли захотелось припасть к нему, ощутить защиту. Еле удержалась. Хорошо, что в темноте не видно выражения лица.
– Боюсь я за нее, как за дочку, боюсь. Я ж не первый год воюю. Хватало и крови, и грязи. Но зверства такого… Чтобы живцом по горло закапывать, или… – он замялся, – срам отрезать и повешенным в рот совать… Спиной повернуться боюсь, чтобы свои крестьяне вилы не воткнули. А то очнусь. Не в чистилище и не в преисподней – призраком на болоте.