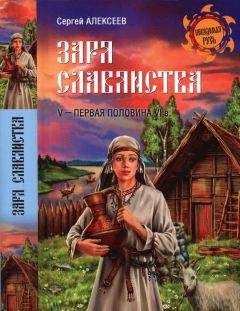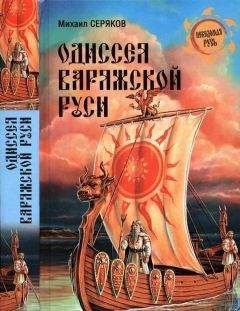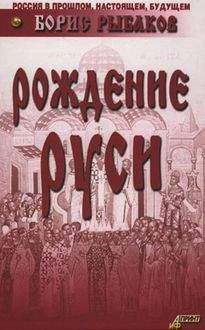Тимофей Алексеев - Дети заката
Сорок второй год выдался голодным, картошка гнить начала ещё с осени. И что только люди не делали: и мыли, и в золе выкатывали — ничего не помогло. И в лесу неурожай случился: шишка не дошла ещё, а отгнила и осыпалась — дожди виноваты были. А неурожай в лесу — зверёк ушёл искать лучшей доли. А людям куда идти? Люди к месту привязаны. Вот и перебивались, кто как мог. Муку экономили: лиственичную кору протирали на камнях да подмешивали — всё подольше протянуть можно. По цвету хлеба можно было определить, у кого сколько муки осталось: от светло-красного до цвета кирпича…
Вот в тот голодный год и нашел Данила берлогу. Белковал он тогда у самой границы с участком Семёныча. Услышал вдруг, как его собака голос поменяла: от звонкого до злобного с хрипом, словно задыхается. Поспешил Данила на лай. Не доходя ещё до собаки, понял, по кому рвёт — не соболька под валежину загнала. На ходу патрон пулевой в ствол загнал, нож на опояске под правую руку приспособил. Собака в ту зиму молодая у Данилы была, по медведю не ходила. Старый кобель, тот-то не раз по медведю работал ещё с отцом Данилы, только тяжёл стал, да, видно, и старые его раны дали о себе знать. Зад вихляться стал, будто идёт и подтанцовывает, — оставил его Данила дома. Да и сам Данила разговоров много слышал, как медведя на берлоге брать, только впервые на деле это надо было сделать. Осторожно подошёл, обтоптав снег, скинул лыжи, пробовал оттащить собаку. Только куда там! — озлобла, своей слюной чуть не давится. Плюнул, ружье прикладом в снег поставил, выломал дрын. А самому сунуть в отдушину страшно. Медведь — это не поросёнок! Понял, что надо успокоиться. Сел на поваленную сосну, трясущимися руками самокрутку сочинил, закурил, глотая горький дым, а горечи не чувствовал. А уже смеркалось. И понял Данила: если сейчас не сунет дрын в чело берлоги, то уже никогда не сможет поднять медведя, ни сейчас, ни потом.
Шест, осыпав мелкую ледяную крошку, ушёл наполовину и уткнулся во что-то мягкое. Данила, приподняв его немного, с силой вогнал обратно. Но тут же шест вылетел из берлоги, чуть не зацепив собаку. Данила ждал медведя, держа на мушке чело берлоги. Мешала собака, тогда он отступил немного в сторону, на секунду выпустив из внимания берлогу. И в тот же миг увидел, как собака, описав кривую дугу, с выпушенными красными кишками упала почти рядом с ним, и буро-грязная туша не виданных ранее размеров будто заслонила от него небо. Выстрел на какое-то мгновение остановил медведя, только перезарядить ружье Данила не успел. От удара лапы он отлетел в снег, потеряв незаряженное ружье, но, падая, успел выхватить нож.
Вот в это самое мгновение он потерял страх! От смерти на волосок, а страха нет. Весёлость в него вошла и какая-то бесшабашность. Не было дум ни о прошлом, ни о настоящем и будущем. Перед ним остался только короткий отрезок жизни, выхваченный, как мгновение, длиною в локоть. И ничего его уже не тяготило… И когда медвежья пасть дохнула на него запахом неминуемой смерти, он воткнул нож в шею зверя. Пенистая струя крови ударила в лицо, а страшная боль словно разорвала его пополам. Перед глазами поплыла медвежья оскаленная морда, поплыл невесть откуда взявшийся человек с рогатиной, одетый в странную одежду, без шапки, с длинным русым волосом, стянутым на голове кожаным ремешком. Небо и солнце, скатившееся к горизонту, стали красными, а снег из белого стал чёрным и горячим. Данила понял, что умер, а всё, что он увидел перед самым концом, — это и есть смерть. Он еле разлепил похолодевшие вдруг губы и прошептал человеку с рогатиной:
— Ты за мной пришёл, святой Николай?
Очнулся Данила ночью. Он понял, что лежит совершенно голый на тёплой медвежьей шкуре. И — чудеса! — вокруг снег, а ему не холодно. Пахнут, дурманят травы, будто он на выкошенном вчера луге. Потому что запах на другой день на кошенине особый… Вокруг горят костры, ходят какие-то люди. Он помнит, что попал под медведя, а боли нет, словно и не было раны. Он хотел поднять голову, чтобы убедиться, что рана есть, но голова тяжёлая даже не приподнялась. И руки тоже недвижимы… Но глаза видят! Людей видят, мясо медведя, развешанное по деревьям. Мелькнула мысль: почему он раздет? Не хотят ли обрядить его в последнюю дорогу? И почему он не чувствует холода? И снова мысль: а во что они меня будут обряжать? Рубаха новая ведь дома осталась! И штаны мать сшила новые по осени. Надо бы им сказать! Что же идти-то туда в старом да порванном? И снова вспоминал, как в деревне хоронили. Даже для безродного мужика Авдея, когда его пьяного бык зашиб насмерть, и то по дворам одёжку новую собрали. Положили в гроб красавцем, как и при жизни-то он никогда не ходил. А его почему так?…
Видел, как подняли с костра котёл, от которого шел пар, и понесли к нему. Так это от котла пахнет травами!.. Ну, вот, сейчас они меня и обмоют!
Только опять же… У них в деревне обмывала всегда одна и та же старуха. Говорили, что она девственница, и только ей положено обмывать и собирать в последний путь. А тут мужики — чудно! Так они же меня сейчас ошпарят! Испугался Данила, но тут же подумал: а мертвому чего? Все одно уже ничего не страшно и не больно.
Достали мужики из котла травы, обложили его, стали поливать из котла дымящейся водой. А вода и не горячая вовсе, только вспенилась вдруг на нем, словно брага хмельная, невыбродившая. А от запаха закружилась голова да в ушах звон пошел, словно он на тройке с бубенцами.
Видел он такую один раз всего… Кататься-то не катался: да и кто посадит его в кошеву? Начальство тогда на огонь-конях в Верхнюю Каменку приезжало. А им разрешили только бежать за тройкой. А теперь будто он сам в той кошеве. Но не ямщиком на облучке! Лежит в покрытой медвежьей шкурой полости, а кони без кучера несут его будто и не по земле вовсе, так как нет скрипа снега. Оглянулся: а действительно, землю скрыла снежная пыль! Как в молоке земля! А тройка на огненную зарю летит! Кони в огне, и гривы солнечными лучами развеваются.
И вдруг весело ему стало и приятно! Во всем теле легкость! Нет ни людей, ни костров — всё, что окружало его, отодвинулось. Осталось только небо с гаснущими пред утром звёздами да огненные кони! И оттуда, куда стремилась тройка, полилась песня, длинная-длинная, печальная и осязаемая, словно она обрела форму. И от неё, как от русской печи, тянуло сухое тепло. От песни загорелось сначала в груди, будто от костра отлетел уголек, и пробил грудь, и остался в ней. Потом тепло пошло по рукам и ногам, словно бражки он выпил в первый раз. А голову заполняла песня! Когда же не осталось в нём свободного места, слова рассыпались вокруг него колокольцами. И завертелась земля вместе с Данилой…
Второй раз очнулся он от лая деревенских собак. Лежал у большой кедры на пихтовом лапнике. Костёр дышал смолевым дымом ему в лицо, заставляя прикрывать глаза и морщиться. Он пошевелился и с радостью понял, что тело принадлежит ему. Оно слушается! Не как в первый раз! А значит, он жив, и всё, что виделось ранее, было всего-навсего мороком, как и Николай Угодник с рогатиной, пришедший к нему на помощь. Данила приподнялся и увидел уже замороженное мясо медведя, которое тоже лежало на лапнике, и человека, идущего со стороны реки. Когда он уже подошёл настолько, что можно было видеть лицо, Данила узнал в нем Николая Угодника. Он прижался спиной к кедру. Опять блазнится? Но сейчас день… Человек снял лук с плеча, прислонил к дереву рогатину.