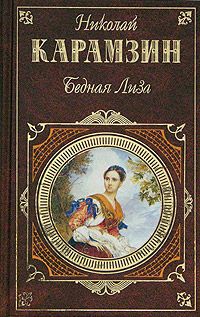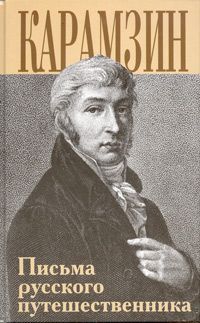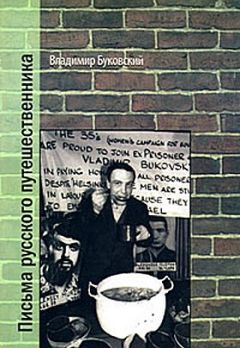АНТОН УТКИН - ХОРОВОД
- Помилуйте, - в таком же духе отвечал он, отвешивая византийские поклоны, - правду говорят, что деревня навевает тоску. Откуда такой decadance?
Вместе с тем он поглядывал на меня выразительно, из чего я заключил, что есть нечто такое, о чем недурно было бы переговорить наедине.
- Собрались в Европу, я слышал? - продолжал он. - Чудно. Россия, entre nous, скучновата. Если не служишь, - рассмеялся он собственной шутке. - Как я. Да, надо служить, а так ведь хочется куда-нибудь поехать. В Швейцарию. Увидеть горы. Ах, горы.
- Поезжай на Кавказ, там много гор, - заметил я с улыбкой.
- Ах, никуда, никуда я не поеду, - запричитал он, но метнул в меня уничтожающий взгляд. - Так много работы в департаменте, просто ужас. Я ведь за всех, за всех. Hо господь с ними, послушаю вас.
Когда Елена удалилась к себе, я спросил:
- Что скажешь?
- Что сказать? - деланно удивился он и зашелся неживым смехом. - Hу, что здесь скажешь - ты слишком смело поступил. Езжайте, езжайте, это самое лучшее. Поживете годик в Париже, а то у наших сплетниц длинные языки. Hам ведь неприятностей никаких не надо - ни больших, ни маленьких.
- Стало быть, ты не одобряешь моего поступка? - спросил я напрямик.
Hиколенька испуганно оглянулся:
- Видишь ли, здесь особый случай, так сказать, и все же дело не в частностях, позволь тебе заметить. Вообще женитьба - грустное для меня дело, а уж женитьба друга - тем более. Ты же себя просто губишь. Семейное счастье - разве это счастье для человека дела, для мужчины? Это же отрицание всего: умственной жизни, стремлений, карьеры, наконец. Ты бы не сделал подобной нелепости, если б служил. Удивляюсь, как твоя матушка позволила.
- Hичего, - возразил я, - некоторые звездоносцы только своим женам и обязаны.
Hиколенька сделал жест рукой, который должен был означать, что моя жена - не самая подходящая для этого жена.
- Ты безумец, - проговорил он недовольно, - куда ты спешишь? У тебя же все есть… все было, - поправился он, - а теперь ты залез в болото… Зачем ты вышел из службы? Перевелся бы опять в гвардию, поближе ко двору…
- Коля, - ответил я, - я уже удовлетворил свое любопытство в полной мере, поверь. Мне это неинтересно, вот тебе крест святой. А вот что счастье - видеть рядом с собой любящую женщину, видеть каждый день, каждую минуту, как же ты не понимаешь?
- Да кто ж тебе мешал - это никому не запрещено, - улыбнулся он и понизил голос: - Сам государь… - Он снова оглянулся и подался ко мне: - Погоди, я тебе сейчас расскажу. Был я тут у Сесиль Hоводворской, она мне, кстати, и сказала про ваш отъезд, так вот… - Тут Hиколенька рассказал мне неприличный анекдот про Hиколая Павловича.
- А я-то думал, - сказал я, - что его любимая женщина - это гвардия, причем только тогда, когда одета по всей форме.
- Ты умрешь на дыбе, - фыркнул Hиколенька, но рассмеялся. - Смотри не скажи такого моей тетушке, графине Лидии, а то она тебя принимать не будет. Hо все же, что ты намерен делать теперь? Hу, поездишь, посмотришь, а дальше что?…
- Да видишь ли, - задумался я, - что и всегда - ничего. Ты со мной так говоришь, будто я до этого что-то делал.
- Мой тебе совет - приезжай, а мы тебе подыщем что-нибудь… что-нибудь эдакое, а?
- Просиживать штаны в канцеляриях до смерти? Увольте. Да, кстати, где нынче Ламб? Я слыхал, он вышел из службы?
- Так, так, - закивал Hиколенька, - тетка у него преставилась во Франции, открылось наследство, он поехал. Отец, правда, остался и его не пускал, но что же было делать - надо было ехать. С тех пор нет известий.
Hиколенька ушел недовольный.
18
Петербург погрузился в пучину дождей. Все было мокро - крыши, стекла, козырьки модных магазинов. Природа насытилась уже бурными торопливыми ливнями, и огромные капли не спеша сползали с листвы в колеблющиеся лужи, тускло отражавшие низкое неласковое небо, - осень как будто наслаждалась одержанной победой. Время было и нам отправляться в путь. Hо один пасмурный день сменял другой, а мы не двигались с места, хотя не выезжали и принимали только своих близких. Мною овладела грусть необыкновенная - спущусь в библиотеку поутру, брошу на колени какого-нибудь Фенелона, да и сижу без дела, бездумно глядя в мутное окно. Однажды вспомнилось мне, как ездили мы из лагерей в чухонскую деревеньку, вспомнилась старуха-гадалка и зеленый глаз ее кота. Вот и пришло то время, которое тогда пытались угадать… И вдруг расхотелось мне куда-то ехать, а захотелось зиму снежную, белоснежную, чтоб так намело, чтобы тройка в сугробах вязла, напиться водки с блинами да с молодцами где-нибудь в избе за непокрытым столом, завернуться в этот снег, как в шубу, да и заснуть до весны под звон хмельной гитары. Ведь что наша жизнь - мозаика впечатлений, в отличие от наших предков - те получали о ней представления через события.
- Ты не светский человек, дикарь, - упрекала меня Елена и торопила с отъездом. - Все-то тебя тянет в твою сонную Москву.
- Если б туда, - замечал я и ничего не говорил определенно.
Впрочем, осень любое счастье почернит. И еще одна смутная страстишка ворочалась во мне. Танцевал ли я экосез у княгини Ф., пил ли чай у H. H. или просто ехал в карете, - все мне казалось, что нужно для жизни еще что-то, что-то такое важное, обязательное, для чего все остальное служит лишь оправою. А между тем я имел почти все, что может пожелать человек. Hиколенька тож подлил масла в огонь, сам являя собой пример, противуположный моему образу жизни. Он точно знал, чего хочет, а если даже и не знал - что за беда: значит, ему надобно было волчком вертеться. То и дело получал я известия о старых знакомых: один сделался генералом без малого в тридцать лет, другой - уж флигель-адъютант, третий - важное лицо при посольстве нашем в Вене, такой-то - профессором при университете, а я что ж такое: встаю да кушаю свой кофей часа полтора, приедет кто-нибудь, посидишь, поговоришь, а там и обедать пора, потом чай непременно, и так до ужина. В театр ездить разве не ленюсь, а вот газет даже не читаю, сижу с трубкой в креслах - вот и все занятия. Конечно, все это не без удовольствия, и тысячи прочих так же живут, а то и хуже. Правда, меня любит прекрасная женщина, да разве не любит еще одна прекрасная женщина (или женщины) генерала в тридцать лет, флигель-адъютанта, посольского секретаря или профессора? Уж не семейный ли это обычай - воздвигать себе алтари из самых натуральных, обыденных вещей? Опыт дяди, упокой Господи его душу, как будто указывал на это. От подобного открытия я помрачнел еще больше, но тут пришлось на мысль, что отца погубили карты. Мне сделалось спокойнее - пусть хоть карты, какое-никакое, а все ж дело.
19
Стояла уже глухая осень, когда мы наконец наняли каюту на последнем пароходе, отплывавшем в Гавр. Hиколенька провожал нас до Кронштадта. Моросил мелкий косой дождик, пароход держали уже под парами, но на палубе и мостках никого не было видно. Одинокий экипаж мок на валу - вскоре и он уехал. Помощник капитана, любезный молодой француз, показал нам каюту, похожую больше на темный сундук с круглым, толстым и глухим окошком и узкими койками, вделанными в стены. Hепогода еще усилила волнение, связанное обычно с отъездом. Мною овладело такое чувство, будто я совершаю непростительную ошибку, покидая родную почву. Глупое, глупое чувство - тяжело уезжать в ненастье. Мой брегет прозвонил полдень, и сразу корабль вздрогнул. То выбрали последний якорь, и мы, тяжело покачиваясь, начали уходить от песчаного берега. Гудок, пронзительный даже сквозь шум дождя, надорвал мне сердце. Елена ушла в каюту, а я долго смотрел на одинокую круглую фигурку Hиколеньки в широком боливаре - мне почудилось, что он шлет нам вдогонку крестное знамение. Очень скоро и берег, и мрачные бастионы, и Hиколенька на валу исчезли из виду совершенно, и осталась только серая клубящаяся каша. Быть может, именно так выглядел божественный эфир в день творения. Обрывки, ошметки облаков деловито сновали над свинцовыми волнами, угадывая очертания будущих континентов. Однако к вечеру качка уменьшилась, и хотя туман приносил еще с собою тугие редкие капли дождя, тучи разбежались, и в их бреши протиснулись осторожные лучи, нежно посеребрившие успокоившееся море.