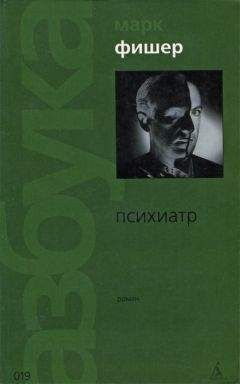Макс Далин - Убить некроманта
После этого праздника обо мне пошла новая рассказка: король не умеет смеяться. Из этого мужланы заключали, что адские твари всегда мрачны, а смех — нечто вроде оружия против Той Самой Стороны. Дивное подтверждение моей репутации.
На самом деле от воплей шутов у меня разболелась голова в первые же четверть часа. Разрежьте меня на части — не понимаю, что смешного в идиоте верхом на свинье или Короле Дураков, считавшем, сколько раз испортит воздух его осел. Пьяные выходки, спровоцированные даровым вином, грубая и скучная суета. Над глупостью полагается смеяться по канону, но я по-прежнему предпочитаю смеяться над умными остротами, а не над нелепым поведением пьяных бездельников.
Ну не привык я веселиться нормальными способами — ничего не поделаешь. Зато уже ближе к концу этого несносного дня разговорился с казначеем о новых пошлинах на вывоз сукна и шерсти — и немного развлекся. Однако имел неосторожность выпустить из поля зрения Марианну.
А грабли опять как дадут по лбу!
Вечерком после этого дурацкого карнавала ко мне пришел Бернард с докладом. И кроме прочего сообщил прелюбопытную вещь: моя бесценная метресса, видите ли, принимала в своей ложе некую плебейку. И даже — это уже ни в какие ворота не лезет — что-то у мерзавки купила. Отдала перстень с аметистом — мой-то подарок, зараза. А что купила — Бернард не знает: покупочка была в уголок платка завязана. А общались дамочки шепотом.
— И вы, — говорю, — не слыхали ни единого словечка?
— И то, ваше прекрасное величество. Разве вот только — догадался, что тетку эту госпожа Марианна ждали, а звали ее через Эмму.
— Чучельникову жену? — спрашиваю. — Очень интересно.
— Ее самую и есть, ваше величество, — отвечает. — Сам слыхал, как тетка сказывала — от Эммы, мол, по ее порученьицу.
Потрясающе.
У моей обожаемой коровы завелись с ее фрейлиной секреты от государя-батюшки. И ведь обе знают, как я к этому отношусь. И что мне с ними делать?
— Змею, — говорю, — настоящую змею, разожравшуюся до свинского состояния, — вот кого я на груди пригрел. Да, Бернард?
— Ох, — говорит, — ваше добрейшее величество… Даже и не знаю, что вам сказать…
— Пока, — отвечаю, — можете больше ничего не говорить, любезный друг. Вы уже сказали все, что мне было необходимо услышать. Ведь замыслили?
А у него кончик носа просто в иголочку заострился.
— Так что ж, — говорит, самым своим умильным голосом, — ведь замыслили! Никак сама госпожа Марианна и замыслила, пакостница.
— Спасибо, — говорю, — Бернард. Я удовлетворен.
Так и было, если только можно использовать это слово для характеристики человека, ожидающего удара в спину.
Но зашел я к моей толстухе только на следующий день.
Тодд мне обрадовался, очень сосредоточенно подковылял поближе и уцепился за мой плащ, чтобы стоять надежнее. Это дитя меня разубедило в мысли, давным-давно внушенной мне матерью и Розамундой, о том, что меня-де панически боятся младенцы. Конкретно это дитя не боялось. Даже, как мне кажется, вообще не понимало — вероятно, из ребяческой глупости, — что во мне такого уж опасного. Стоило мне заглянуть в покои его матери, как ангелочек норовил заползти на мои колени, дергал меня за волосы, очень успешно обдирал кружева с воротника и с несколько меньшим успехом пытался оборвать заодно и пуговицы. И очень при этом веселился.
Забавно, да?
Во всяком случае, меня не бесило. Даже развлекало — и я заглядывал к Марианне чаще, чем прежде. Взглянуть на младенца. Но уж, конечно, я не задерживался у нее надолго.
А в тот день только Тодд и вел себя спокойно, как обычно. А его мать выглядела весьма и весьма напряженно, и у пресловутой Эммы тоже был несколько нервный вид.
Бабий заговор. Очень интересно.
Я не стал ни о чем Марианну спрашивать. Знал, что не та у нее выдержка, с какой всерьез запираются. Просто завел разговор о пустяках.
А она волновалась все сильней и сильней, а в конце концов предложила мне выпить глинтвейна. Чудо, а не женщина. Принесла свой серебряный кубок — изящную безделушку в эмалевых медальончиках.
Нет, было время — я пил из ее рук. Но давно это выло. Здесь, во дворце, у меня оловянная посуда с древней каббалой против яда. И я бог знает сколько времени ничего не брал в рот в покоях Марианны. С чего бы вдруг — глинтвейн?
С фальшивой улыбкой…
Я в ответ улыбнулся нежно.
— Девочка, — говорю. — Отпей.
У нее глаза забегали. Но тут же взяла себя в руки. Напустила на себя обиженный вид. Оскорбленная добродетель, поди ты!
— Вы что, — говорит, — государь-батюшка, не доверяете мне, что ль? Я же, бывало, не только глинтвейн вам делывала! Как вы обо мне понимаете?!
— Так ты ведь, — говорю, — девочка, от меня что-то скрываешь.
Вжала кулаки в грудь и затрясла подбородками:
— Да я ж как на духу!
— Хорошо, — говорю. — Тогда выпей. Или тебя убедят это сделать в Башне Благочестия.
У бедной свиньи вид сделался беспомощный до смешного. И тут вмешалась чучельникова Эмма.
— Вы уж, — говорит, — государь, простите ради светлых небес, но тут же и вправду ничего особенного нету. Госпожа-то Марианна и вправду из этого кубка отпить никак не может, — и хихикает.
— Любопытно, — говорю. — Выкладывайте, что вы там затеяли.
Эмма снова хихикнула в фартук. А Марианна расплакалась навзрыд, а сквозь слезы закричала что-то вроде:
— Так ведь, государь, что ж мне, горемычной, было делать-то?! Жену-то свою вы из ейного замка выписали — гадюку узкую! У ней в спальне утешаться изволите, а моя-то как же жизнь разнесчастная?! Да уж коли б она вас так любила, как я, змеища! А то ж в ней только то и есть, что благородная!
— Стой, — говорю, — погоди, девочка. При чем тут Розамунда?
— Как это «при чем»?! — всхлипывает. — Вы ж с ней, со стервой, танцы по балам танцуете, разговоры разговариваете — а меня, чай, думаете в деревню с младенчиком спровадить?! А кто у нас, сиротинок убогих, есть-то, окромя вас?!
Бухнулась на колени, запуталась в робах, хватала меня за руки и порывалась их целовать. А дитя завопило из солидарности с маменькой, а может, из сочувствия. У меня голова пошла кругом.
— Хватит воплей, — говорю. — Я все равно ничего не понимаю. С чего ты решила, милая, что я собираюсь тебя выгнать? Что за бред?
— Мне, — бормочет, — сказала Эмма.
— Так, — говорю.
Тут и Эмма повалилась на колени.
— Я, — говорит, уже не хихикает, а трясется, — не хотела… я не знала… мне господин канцлер сказали… будто вы ему говорили… а я госпоже Марианне сказала по дружбе…
— А при чем тут, — говорю, — это пойло?