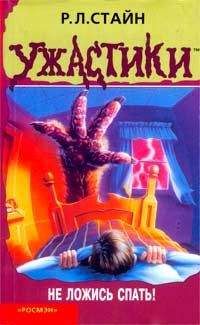Ника Ракитина - ГОНИТВА
– Простите, панна Антося, – прервал ее Айзенвальд. – Пока светло, нужно осмотреть тело. Пан Тумаш мне поможет, – Занецкий кивнул. – А вас с паном Кугелем я попросил бы уйти.
Кугель смешно подал руку крендельком:
– Панна ласкава. На крылечко прогуляемся?
Айзенвальд поймал ненавидящий взгляд, брошенный через плечо, и тут же забыл о нем, занявшись делом.
– Ох, и зимно во дворе, ох, и зимно! – толстяк нотариус, страшно довольный прогулкой, раскачивался и притопывал сапогами, шлепал себя по румяным, как снегири, щекам. Айзенвальд задумчиво оглядел собственные растопыренные пятерни – пальцы задубели до бесчувствия. И внутренности, было, отогретые коньяком, спеклись в ледяной ком. Генерала не спасло даже то, что тело Ульки накрыли сорванной с окна портьерой. К счастью, она умерла сразу. Разбилась при падении. Кровь, пролившаяся из носа и ушей, быстро свернулась, оставив дорожки под ноздрями, пару слипшихся прядей и несколько пятен на ковре. Бросали бы мертвую – обошлось без переломов. Пьяницы и покойники летят расслабленно, оттого целые; живые – сопротивляются. Пальцы Ульки все были сломаны, и позвоночник вогнало в череп – но на иссохшем оливковом теле не нашлось порезов и огнестрельных ран. И следов зубов, кстати, тоже. Генрих застегнул на мумии платье, зачем-то удивляясь, как же оно велико, хотя и при жизни, верно, болталось на худенькой Ульрике. А Тумаш хорошо держался: ни обмороков, ни стонов. Помогая хозяину, обмолвился, что изучает медицину одновременно со своей математикой – никогда не знаешь, мол, что пригодится в жизни. Вот и пригодилось, так разтак! Без Антоси с Кугелем они суховато обсудили, что панну Маржецкую сбросить вниз никак не могли: лестница достаточно пологая, но толкни ее с силой – упала бы, перекатившись, не там, где нашли, а у самого подножия. И случайно упасть не могла, даже в обмороке – перила достаточно высокие. Значит? Мужчины переглянулись и замолчали: двух лет без погребения достаточно, чтобы искупить всякий грех.
Версию убийства исключало и то, что одежда оказалась целая, только платье чуть разошлось по шву сзади у талии. Но это могло случиться и сегодня, когда труп вертели и раздевали. Кроме обуви и одежды при Ульрике нашлась лишь связка ключей – совершенно такая же, как у Кугеля. Нотариус забрал ключи себе.
– Что станем делать, панове? – возгласил он.
– Тут есть домовая церковь, панна Антонида? – спросил Айзенвальд, устало наклоняя голову к плечу. – Положим панну Маржецкую там. А завтра отвезем в Навлицу, похороним по-христиански.
– Там, – Антя мотнула головой вправо, – за прихожей, где мы вошли, но в другом крыле.
Занецкий с тоской посмотрел на лестницу. Антя вдруг улыбнулась:
– Что вы. Пройдем через залу. С этой стороны не заперто.
Айзенвальд вынул из теплых меховых глубин шубы "Нюрнбергское яйцо", взглянул на позолоченный циферблат: с момента их приезда в замок прошло всего полтора часа.
Парадные двери отличались от потусторонних ворот, как небо от земли: трехстворчатое, резное, почти воздушное полотно из красного дерева и вставки-витражи: цветы и стебли вишневого и золотого стекла. Но их солнечное присутствие обрезало, точно ножом, у самого входа. И хотя гости старались двигаться так, чтобы облака потревоженной пыли не поднимались в воздух, в зале все равно было сумрачно, как на дне колодца. Лишь на запредельной высоте, откуда свисала люстра, затканная пылью и паутиной, еще более огромная, чем при взгляде с балкона – пересекались летящие из узких окон цветные лучи, и лепестки света играли на стенах, на выпавших из чехла хрустальных каплях и шариках, пыльных штандартах и скользком мраморе балюстрады. Айзенвальду квадратная зала с глухими стенами и тяжелыми выступающими балками, на которые опирались балконы, напомнила пещерные святилища ранних христиан или старые костелы: свет там распределялся именно так – от свода до середины стен по высоте. Этот свет должен был обозначать для людей, утонувших во тьме греха, горние выси. Зала подавляла. И витражные двери, и мраморные обрамления, и проглянувший местами сквозь пыль наборный паркет – все сметало тяжелым ветром времени. Квадратное оборонное укрепление, вокруг которого построили дворец, и еще постарались навязать лоск и новизну бальной залы – вот что это было. В колокольном воздухе, просыпаясь, ворочалось эхо.
Охнул, споткнувшись обо что-то мягкое, Кугель. Нагнулся, силясь понять, что там у него под ногами. Отскочил. Зажал рукавом рот. Придержав тело Ульрики, ойкнул Занецкий:
– Панна Антося! Не смотрите!
Девушка склонялась все ниже, как завороженная. Айзенвальд подхватил ее сзади за локти, чтобы не упала. Мертвец – пыльный холмик, слившийся с полом – в последнем усилии тянул к пришельцам руку, о которую и запнулся нотариус. К ним и за их спины – к обрезанному, точно ножом, свету от дверных витражей. Сухая плоть в кружеве манжеты, обнажившаяся, когда Кугель сбил с нее пыль. Поверх смятый, вроде бы, серебристо-голубой плотный рукав…
– Это не он, – хрипло, точно пробуя голос, закричала Антя. И звучней и звонче, так, что загремело голубиными крыльями эхо: – Он не мог! Это не он! НЕ-ет!!…
Она кричала и не могла остановиться. И тогда Айзенвальд, не обращая внимания на боль, проснувшуюся в порезанной руке, плечом распахнув двери, вынес Антю наружу и уложил лицом в снег. Кожушок на девушке задрался, старческий плат отлетел в сторону, рыжие волосы встали дыбом. Она каталась, выла и силилась попасть в Генриха ногой – но уже от здоровой злости, а не от истерики. И таки попала – в Кугеля. Носатый согнулся, держась за живот. Прохрипел:
– Панна ласкава… Мы все это… устали… замерзли, – с отвращением глянул на башенки, охраняющие арку парадного. – А над конюшней комнатка… с трубой… Ох! Не сбегут же они…
Антя, красная и растрепанная, как ведьма, села в снегу, отерла варежкой мокрое гневное лицо. Тумаш протянул ей руку, помогая встать.
Пришлось сходить за сумками, а ключ к замку нашелся в одной из связок.
Деревянная лестница старчески стонала под шагами. Кони за стеной сопели, фыркали, переступали с ноги на ногу, скрипели загородками. Они вообще спят мало, и примерно пол ночи будут уютно хрустеть наваленным в ясли сеном, выбирая из былинок сухие головки клевера, тихонько ржать и еще как-нибудь оказывать свой лошадиный характер. Думать об этом было приятно. Как приятно выплетать свой маленький узор, обживая комнатку наверху, наполняя ее памятью лета – запахом сухой травы от брошенного на пол сена, горечью дыма жарких березовых дров. Разгоняя обыденностью холод и тлен, приручая – под недобрым взглядом слепых дворцовых окон и зловещим шепотом деревьев за толстыми стенами. И даже забыть о найденных мумиях. И о панне Легнич, что статуей еллинской девки застыла в углу, переживая смерть своего мира.