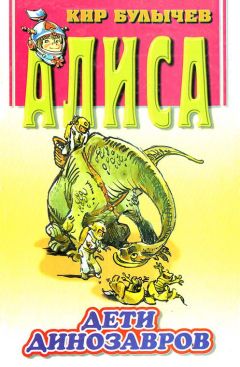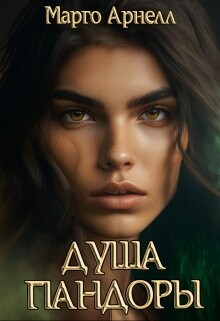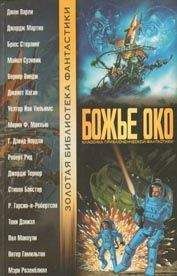Явье сердце, навья душа (СИ) - Арнелл Марго
Земля задрожала, будто над ее просьбой смеясь. Лес за полем зашумел, колосья заволновались, словно ветром потревоженные. Яснорада лишь на миг смежила веки, как на поле вылетел конь. Шкура серебряная, а грива с хвостом золотые. Бока вздымаются, из ушей валит дым, из ноздрей вырывается пламя.
— Спасибо, — прошептала она матери.
«Кто землю трясет? — раздался недовольный голос из самой, казалось, земли. — Кто меня будит?»
Яснорада, еще не успевшая отнять ладонь, оторопела.
— Простите, — робко сказала она.
Извне чувство пришло: с ней говорила полуденница, что отплясала все лето и с началом осени ушла на заслуженный покой.
«Вижу корни твои, что вплелись в мою колыбель. Чую силу в тебе, родную, навью, да только не воплощенную».
Шелковые локоны Яснорады снова обратились пшеничными колосьями. Как золотистое море, заколыхались на ветру, спрятали от случайного взгляда в пшеничном поле. Та рука, что касалась земли, стала тонкой и гибкой ветвью.
«Хочешь, с собой заберу? Земля укроет тебя в своих недрах. Летом проснешься вместе со мной и станешь сестрой моей, полуденницей».
Яснорада представила, как танцует на полях, поднимая юбками ветер, что разгонит иссушающий летний зной. Как водит с новыми сестрицами хороводы и песни звонкие колосьям и травам поет, чтобы быстрей росли и созревали. Как бежит наперегонки с луговичками, как шутливо бранится с полевиком…
— Меня ждет дело, — отозвалась Яснорада, глядя на дарованного матерью коня и Баюна с Марой, которые спешили поближе к нему подобраться.
«И я могу тебя подождать», — вкрадчиво сказала полуденница.
Яснорада, позабыв о том, что навья нечисть ее видеть не может, медленно покачала головой.
— Прости, но я не приму твое предложение.
«Как знаешь», — разочарованно отозвалась полуденница.
И, кажется, заснула — до нового лета.
Яснорада, помедлив, поднялась. Ее ждала долгая дорога.
***
Маре нравилось учиться у Анны Всеволодовны — спокойной, мягкой, терпеливой… не похожей на Морану ни в чем. Ее отчего-то изумляли общирные и разносторонние знания Мары — как и ее пробелы. Верно, не вписывалась царевна Кащеева царства в представления ставшей учительницей княжны. Не говорила этого Анна Всеволодона, но Мара не зря так долго и так пристально наблюдала за людьми обоих миров. Трех даже, ведь и кащеградские во многом от навьих людей и сущностей отличались, а от явьих — и подавно. Не зря училась расщеплять их слова на скрытые смыслы, действия и взгляды — на чувства и мысли. Сложна для Мары была эта наука, но и упорства ей было не занимать.
Видела она и другие уроки Анны Всеволодовны с чудскими детьми. Увидев впервые, недоуменно фыркнула — они не знали даже грамоты! Княжна защищала их с мягкой улыбкой: слишком маленькие еще они. Вот только Мара заговорила в первый день своего рождения, а грамоту — что чтение, что письмо — освоила во второй.
Нравилось Маре наблюдать за чудскими и все свои наблюдения записывать уже не на бересту, а на подаренную Анной Всеволодовной восковую табличку. А после показывать ей, словно домашнюю работу, что гусляр сдавал в Яви своим учителям.
Но просто наблюдать Маре было мало. В ней трепетала нужда стать важной, значимой для кого-то, как Анна Всеволодовна — для этих несмышленых маленьких людей, Морана — для невест Полоза, кот и гусляр — для Яснорады… как и она для них, наверное.
Оттого Мара старательно ловила в чужих словах и взглядах чужое к ней отношение. С гусляром было просто — он ее недолюбливал. Но ей-то что до его любви? Это Яснораде, что занятно розовела от одного его имени, о том стоит тревожиться. Баюн к Маре все еще присматривался, глаза все щурил, глядя на нее — даром, не принюхивался. Яснорада… Сердце ее было большим, душа распахнутой — таким ее образ сложился в голове Мары. Потому свою неприязнь Яснорада не показывала, а может, и вовсе была на нее неспособна. В ней многое, верно, было от ее родительницы — Матери Сырой Земли…
Больше всех любила Мару, кажется, Анна Всеволодовна. Правда, что-то подсказывало ей, сердце той было приучено любить всех без исключения. Но это ничего. Не страшно, что приходится быть одной из многих. Мара сделает все, чтобы княжна полюбила ее больше всех.
Глава тридцать первая. Берендеи и волколаки
Ход, прорубленный в горе Хозяйкой, вывел Финиста к глубокому, чистому озеру, на берегу которого стоял высокий длинный терем. Однако сколько бы он ни стучался, ответа не было.
Развернуться и уйти? Ни за что.
Финист толкнул дверь, и та легко отворилась. Перешагнув порог, он оказался в общинном доме. В одной просторной спальне стояло несколько коек, на двух из них спали люди, остальные сидели в другой комнате, за столом у печи. Среди берендеев были и молодые, как он, юноши, и взрослые мужчины, и совсем старики. Объединяло их многое: все берендеи были рослыми, крепкими в плечах и бородатыми, как будто очень хотели походить друг на друга.
— Кто такой будешь? — с ленцой сказал один из них, с черными, будто уголь, волосами.
Макнул в миску с супом куском хлеба и одним укусом его отполовинил.
— Финист я. С Кащеева царства.
— Не слышали о таком, — обрубил берендей. — Зачем ты здесь?
— Хозяйка горы говорит, что видит во мне двусущность. А я, как ни пытался, оборотиться никем не могу. Она сказала, что ничем больше помочь мне не может, посоветовала к вам прийти.
— А чего сама не пришла? Испугалась?
Берендеи радостно расхохотались. В голове Финиста мелькнуло: «А есть чего?»
Дожевав кусок хлеба, черноволосый поднялся. Прищурился, будто прочитав мысли незваного гостя. Глаза у него, казалось, были еще темней волос.
— А кто мы такие, знаешь?
Финист врать не привык — покачал головой.
— Вот отчего храбрый такой, — гоготнул старик, чья седая борода грозила в любой момент угодить в суп.
— А давайте покажем, — подмигнул черноволосый собратьям.
Берендеи, ухмыльнувшись, повставали со своих мест. Опустились на колени, опираясь о пол ладонями. В желудке Финиста заворочался холодный ком. Кажется, его еще называли нехорошим предчувствием.
Оно оправдалось в полной мере, когда мышцы под натянувшейся кожей берендеев заходили ходуном. Обитатели терема увеличивались в размерах, от расширившихся, раздувшихся мышц и костей лопнула одежда. Будто одного этого перевоплощения оказалось недостаточно, чтобы напугать Финиста до дрожи, кожа берендеев покрылась густой бурой шкурой.
Раздался рык, выбивший землю из-под его ног. На Финиста смотрела дюжина медведей.
— М-мама.
Они то ли загоготали опять, то ли зарычали. А потом перевоплотились обратно, оставшись в одном исподнем. И, как ни в чем ни бывало, уселись за стол доедать.
— Не берендей ты, ох, не берендей, — ухмылялся черноволосый. — Смелости в тебе — по крохам собирать.
Финист пожал плечами, и не думая обижаться. Как-то раньше ему не приходилось проверять на прочность собственную смелость.
— Может, и не берендей…
— А раз так, делать тебе здесь нечего, — беззлобно сказал старик, с некоторым огорчением глядя в опустевшую миску.
— Выходит, тем, кто не вашего поля ягоды, вы не помогаете?
— Отчего же. Многих людей мы в свои тайны посвятили, многих берендеями сделали.
— Меня вот, например, — отозвался русоволосый парень с жиденькой бородкой. — Только до той поры мне пришлось пройти множество испытаний, чтобы волю свою железную берендеям показать. Чтобы доказать, что их дара я достоин.
— Не герой ты совсем, хотя есть в тебе что-то такое… — проговорил черноглазый, рассматривая Финиста в упор.
— И я чую, — кивнул старик. — Только этого недостаточно. А вот если пройдешь дюжину наших испытаний, может, в тайны свои посвятим, собратом нашим сделаем. Здесь будешь жить, в общине нашей. В человеческом теле — вкусную еду есть, в кроватях спать. В медвежьем — резвиться в лесу, свободой наслаждаться.