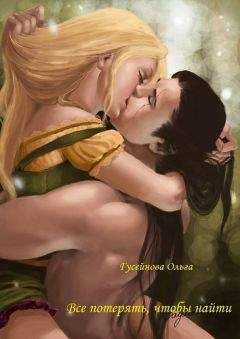Екатерина Соловьёва - Хронофаги
«Что мы тогда отмечали? Что я праздновал? Зачем так надрался?»
Ответа не было. Зато вспомнилась ухмылка Колпака, когда Лом и Герыч «учили» его, молодого и неопытного вора, попавшегося на территории положенца. Тогда, кажется, и угасла надежда, вера в людей, в добро… и в себя…
Валет играть не мог никогда. Пальцы с подушечками, подпиленными пилкой, и со сбитыми костяшками теребили свирель грубо, неуверенно. Душа потерянно молчала, глуповато глядя на круглое отверстие. Однако, не выбросил, не потерял, все эти годы таскал в кармане, будто ключи от старой жизни.
«Получится? Вряд ли. Точно нет. Кулаки Герыча выбили всю эту романтическую хрень… разве что попробовать… в последний раз…»
Он прокашлялся, прислонил флейту к губам и легонько подул. Звук вышел неуверенный и словно бы какой-то горький, как тяжёлый вздох. Валентин помолчал, и продолжил — мелодия полилась низко и отрывисто, словно пение кукушки в полуденном лесу. Пальцы перебирали отверстия медленно, нервно, будто заикаясь.
Один…
Всё время один…
В школе, дома, в институте…
И даже на Гремячке только шустрые полёвки да толстые пауки…
А воры смеялись и тыкали пальцем, все: Афонька, Лапоть, Фома…
Слёзы душили, как железные пальцы Марка, в горле что-то клокотало. Обида рвалась изнутри наперегонки с лютой злобой за всё, за всё, что эта жизнь наделала! За все синяки, выбитые зубы и растоптанную душу!.. За всё…
Мелодия на мгновение смолкла, рука с флейтой бессильно опустилась. Валентина трясло. Подбородок щекотали тёплые капли. Он слепо уставился в недоумённые физиономии кардиналов, белое лицо Веты, яркие глаза старика. Видеть их не хотелось.
«Какого хера… Я один здесь…»
Мужчина вдруг остро ощутил, что если игра прервётся — он умрёт, и судорожно приложился к инструменту, словно измождённый пустынник к горлышку кувшина, полного ледяной воды.
Жизнь ли виновата? Или сам? Сам… Разве жизнь ограбила ту старуху в зелёном платке? Жизнь изнасиловала ту итальянку? Ту брюнетку в штанишках?
Горечь плотно засела в горле. Мелодия шла туго, неспешно, словно нехотя… Боль осознания уходила медленно, растворяясь, словно сахар в густом чае. И ничего не оставалось. Лишь пустота — гулкая, необъятная, как звук после щелчка ногтем о дно пустой бутылки. Пустота в душе, которая должна быть чем-то заполнена, иначе… Иначе смерть. Не от пули Герыча, не от биты Лома, смерть изнутри…
Жизнь, прожитая зря жизнь, вдруг нависла тяжёлым монолитом. Кроме ночей с Ветой да лета на берегу Гремячки, нечего даже вспомнить. Нечего! Напрасные, бессмысленные годы жёрновами легли на плечи и Валентин с ужасом осознал, что возраст подбирается к тридцати.
Столько времени…
Как они сказали? Хронофаг…
Пожирающий время…
На что я растратил жизнь? На ненависть… Ненависть к отцу…
Отец… было бы всё по-другому, будь он у меня?..
В моём возрасте люди семьи заводят, на дачу по выходным…
Пожирающий своё время…
Но нельзя… нельзя сбиваться. Играть дальше. На кону слишком много.
Следующая мелодия далась много легче. Она дрожала где-то высоко-высоко, словно жаворонок в беззвучный летний полдень, когда травы утомлённо сомкнулись над землёй полной неги и жара. Лёгкая, как первая крапивница в году…
Хотелось счастья — чистого, как студёный Гремячинский родник, и ясного, как ослепительное весеннее небо. Душа рвалась вверх, в неведомые выси, к луне, сияющей во всю свою колдовскую силу. И к Вете, что вечно и гордо попирала её своей босой ножкой.
Невидимые нити, словно струны невероятно старой гитары, вдруг пронзили насквозь, через кожу, мышцы и костный мозг, натуго стягивая гигантские окружности. Он видел, как гигантский, непостижимый уму, змей, невероятно древний и мощный, заворожённо свивает кольца, словно кобра, послушно танцующая под его дудочку, под волшебную лунную флейту. Миллионы, мириады незримых миров пропитывались энергией искреннего раскаяния, наливались силой, обретали прежнюю, твёрдую форму.
Я чувствую… Я их чувствую…
Сердце радостно подскочило, когда пришло понимание:
Я их создаю! Создаю заново! Нечто из Ничто! Как говорил Олег…
Кардиналы, Вета, старик — все они были рядом, их прозрачные силуэты колыхались в божественно-зеленоватом мареве. Глаза закрыты, но вот они все: Мартин хмурится, Олег изумлённо озирается, отец радостно бьёт в ладоши, Иветта кружит в танце, как бабочка. Восторг могущества захлестнул с головой: хотелось обнять их всех крепко-крепко… кроме Бертрана, конечно… и прижать к сердцу, чтобы они знали, что и он не хуже их — и у него есть оно, сердце…
И вспомнилось: томное мычание коров, первая роса на траве, засветло, ещё солнце не встало — небо цвета парного молока, луна над общагой, будто зрелая тыква, взрывается сочной мякотью, и горизонт окрашивается тёплым светом родного окна, где занавески в красных горох и пироги по воскресеньям…
— Хорошо играет, шельма, — пробасил Олег, — заслушаешься…
Валентин мысленно улыбнулся, просветлев от похвалы. В памяти всплыла осень — та самая, неторопливая и ласковая. Руки постепенно вспомнили темп и умение создавать нужные паузы и переливы. Мелодия струилась уверенно, возвращая в мир терпкий шёпот сухих карминных листьев и жухлой травы. Задумчивый октябрьский ветер рвался из отверстия флейты и обволакивал малиновыми мечтами. Повеяло яблоками и рдяным бархатом тенистых аллей.
«Почему только осень? Неужто за тридцать лет ничего не вспомню?»
Пальцы уже устало подрагивали; лёгкие, забитые смолой и никотином, саднило от непривычной нагрузки.
«Надо попробовать. Ещё две мелодии…»
Он коротко выдохнул и заиграл быстро, радостно. Здесь было всё: касание бабочкиных крыльев, морозный орнамент на стёклах, плач стылого дождя и аромат цветущих яблонь. Жар только что отваренной картохи, пение синицы на тополиной ветке, женский смех — рассыпчатый, заразительный.
Валентин на мгновение приоткрыл глаза. Шары и тарелки исчезли. В ясном небе цвета берлинской лазури переливалась молодая радуга. От неё едва различимо отражались ещё с десяток, и он вдруг подумал, что много таких же Валентинов, как он, в других мирах стоят и смотрят на это чудо. Старик отвернулся, что-то увлечённо напевал и притоптывал, уперев руки в боки. Мужчина мельком поймал уважительный взгляд Мартина, мечтательное лицо Иветты и снова зажмурился.
«Последняя…»
Звуки посыпались сочные, зрелые, как спелый виноград. Торопливые, горячие, как пальцы любовника. Краем уха Валентин отметил, как что-то брякнуло о гудрон, покатилось, и Бертран прорычал: