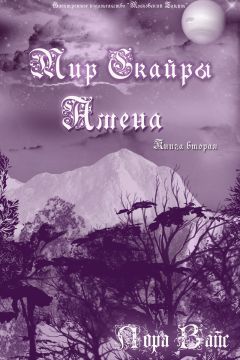Ольга Голотвина - Привычное проклятие
— Поздно, — так же тихо ответил Дэрхи. — Раз послала нас по его следу — стало быть, все уже знает. Придется за старое вранье держать ответ…
Пленник не произнес ни слова, как будто рядом говорили не о его жизни и смерти. Только тоскливо глянул поверх голов своих мучителей.
И увидел еще одного стражника, ловко спускающегося по ветвям высокого дуба.
— Не видно второго! — сообщил тот, спрыгивая наземь. — Ушел, собака проворная!
— Ну и демоны с ним, хозяйка про него не говорила! — хмыкнул командир. — Потащим вот этого в замок, пусть госпожа сама с ним разбирается!
— Вы идите, — поспешно сказал парень, который только что слез с дерева, — а я малость задержусь. Погляжу, не бросил ли этот гад бумаги в кусты, когда драпал.
И гаденько ухмыльнулся, отведя взгляд. Что-то он с дерева увидел. И это «что-то» его весьма взволновало.
* * *Когда брала в тонкие пальцы перо, когда обмакивала его в чернильницу, казалось, что письмо вместит всю горечь и пустоту неверно прожитой жизни, всю любовь и нежность к тем, кого приходится оставить, все душевное смятение, всю тревогу, печаль и надежду.
А перо само вывело недлинные строки: прощание, скомканное объяснение своего поступка и теплые пожелания. Ладно, пусть так и остается…
Оставив письмо на столе, Науфина встала перед привезенным с собой зеркалом, требовательно глянула на свое отражение. Долго ли продержится эта хрупкая поздняя красота без ежедневных забот наррабанки Тайхары? Скоро ли Фержен раскается в своем безрассудном решении?
Ничего! Науфину трудно запугать, это подтвердят все, кто имел дело с «Заморскими пряностями». Она сражалась с конкурентами и с честолюбивыми родственничками — теперь попробует дать бой старости! Кое-чему у Тайхары успела научиться!..
За этими мыслями женщина не заметила скрипа двери. И встрепенулась лишь тогда, когда отражение раздвоилось. Над плечом возникло второе лицо — такое же розовощекое, голубоглазое, обрамленное таким же светлым водопадом волос.
Науфина обернулась, встретила жесткий взгляд внучки — и застыла. Ничего не надо было объяснять.
Женщины стояли друг против друга, словно две медведицы на горной тропе, словно две рати на поле боя.
У стола раздраженно хмыкнул Зарлек: он только что пробежал глазами письмо.
— Ты была права, дорогая. Я тебе не верил, а ты была права, — признал он. — Ах, как это неприятно! Госпожа Науфина, как ты могла?.. Нехорошо, как нехорошо…
При первых звуках мужского голоса обе женщины обернулись к Зарлеку. Ауриви вскинула пальцы к вискам, словно снимая мгновенно вспыхнувшую боль, но тут же мило заулыбалась, вновь превращаясь в «девочку-цветочек-мотылька»:
— А что «нехорошо», милый? Ничего же не случилось! Бабулечку растрогали воспоминания о прелестном полудетском флирте: девичьи мечты, венки из ромашек, пение малиновки в ветвях… я правильно угадала, бабулечка-лапулечка? Ну, все, все, вытрем слезки и забудем эту чепуху!
И она легко поцеловала бабушку в щеку. Науфина, в глазах которой не было слез, молча ждала, понимая, что разговор не окончен.
— А теперь бабулечка успокоится, посидит у себя в комнате и никуда-никуда не будет выходить, чтобы ее опять не расстроили чужие грубые люди. Не сердись, бабулечка-лапулечка, это для твоей пользы, сама мне потом спасибо скажешь… Тайхара, побудь с госпожой. Никого к ней не пускать! Бабушке нездоровится.
И воздушное видение порхнуло за порог. Зарлек, смущенно последовал за женой.
А наррабанка Тайхара осталась. Она прислонилась к дверному косяку и с бесстыдным спокойствием глядела в лицо госпоже. Высокая, костлявая, со скрещенными на груди длинными руками. Сильные руки! Сколько раз они делали Науфине массаж! В драке Тайхара справилась бы, пожалуй, и с мужчиной, а не только с хрупкой немолодой женщиной, у которой отныне в жизни не осталось ни радости, ни надежды…
* * *Поэты сродни волшебникам. И те и другие превращают в явь свои потаенные желания. Правда, когда чудо творит волшебник, это видно всем вокруг, а когда становится частичкой жизни мечта поэта, это чаще всего видит только сам поэт. Хотя порой его стихи позволяют и другим людям приобщиться к чуду, сотворенному вдохновением…
Но как назвать то, что предстало на берегу лесного озера бродячему поэту Арби? Что это было — видение, сотканное больной душой из шороха тяжелых сырых ветвей, предгрозовых порывов ветра и заметающей воду листвы? Или впрямь судьба с высокомерной щедростью швырнула бедному поэту бесценный дар?
Несчастный Арби с утра блуждал по раскисшему мху, по вылезшим из земли скользким корням, по мокрым листьям, по грязи — в надежде уйти от звучащего в ушах голоса. Прозрачного, щебечущего, птичьего…
Что говорила Уанаи про любовь?
«Душевное неряшество… Ужасающая внутренняя несобранность…»
Нечестно! Неправильно! Женщина, которая говорит о любви в подобных выражениях, обязана быть безобразной… Нет, еще хуже: бесцветной, жалкой старой девой!
Нельзя, чтоб такие слова произносили губы, твердо очерченные и изогнутые, словно лук. Это жестоко, если любовь презирает красавица, необычная и загадочная, как… как далекий Ксуранг, отгородившийся от путников отвесными горными кряжами!
Уанаи тоже отгородилась — милой приветливостью, сквозь которую сквозит надменность, чувство превосходства. Не все это понимают, но Арби ощущает ее высокомерие так же остро, как бредущий в метель путник чувствует удары ледяного ветра.
Уанаи — алмаз в куче щебня… как же мучительно сознавать себя этаким щербатым обломком булыжника рядом с ее холодным совершенством!
Воин отвечает судьбе на удар ударом, а поэт — песней. Губы Арби зашевелились:
Сколько раз ты был нежно влюблен:
Поцелуи, признанья в тиши…
Но любовь — это пленный дракон
В беспощадных оковах души!
Вспомни: ночь, серенада, балкон.
Нежный смех, лунный свет, соловьи…
Но любовь — это пленный дракон,
Что терзает оковы свои!
О, влюбленности ласковый сон,
Мотыльковый, хрустальный полет…
Но любовь — это пленный дракон.
Зазевайся — тебя разорвет!
И тут, словно песня была заклинанием, свершилось чудо. Кусты расступились, и Арби, который брел без цели, очутился на крутом берегу озера. Внизу лежала темная чаша воды. А на самом ее краю, как жемчужинка на черном атласе, нежно белело женское тело.
Ксуури, совершенно нагая, стояла по колени в воде. Не считаясь с тем, что осенняя вода была холоднее ее души, женщина неспешно совершала омовение.