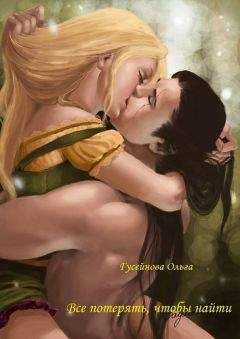Екатерина Соловьёва - Хронофаги
— Ну, так идём.
Когда Автобус уехал, пришлось долго оглядываться в густой серой, как студень, мгле. Мир мёртвых напоминал картину душевнобольного сюрреалиста: безликие бетонные заборы, лестницы, уходящие в дымчатую пелену, и двери. Сотни, тысячи самых разных дверей — деревянных, металлических, стеклянных, пластиковых, с ручками и без, с массивными амбарными замками, с железными засовами, с ключами, торчащими из скважин. Одни плыли в воздухе, другие зарывались в сухую безжизненную землю. Сквозь рваные клочья туч по небу змеёй бежала гигантская строка: «ТЫ НИКОМУ НЕ НУЖЕН… НИКТО ТЕБЯ НЕ ЛЮБИТ…».
Вета наступила на что-то хрустнувшее и подняла ногу, чтобы убрать с подошвы мусор. Им оказалась треснувшая пустышка с голубой пластмассовой каймой и жвачкой на краешке.
Бертран провёл по лицу, наскоро что-то прошептал и всем телом ударился оземь. Девушка ахнула, не веря глазам: с пыли, отряхиваясь и ворча, поднялся огромный чёрный доберман с массивным египетским крестом на мощной шее. Серые глаза глядели также строго, за ушами короткая шерсть серебрилась. Бертран чихнул и вывалил мокрый розовый язык.
В голове пронеслось:
«Ты будешь мёртвая принцесса, а я твой верный пёс».
— Зачем? — только и смогла спросить она.
— Мне нельзя бывать здесь, — ответил он с примесью сухого лая. — Но защитить тебя я должен. Идём, она не успела уйти далеко.
Среди полурассыпавшихся опустелых дворов то там, то здесь попадались пустые коляски, вымазанные в грязи колыбельки со старыми погремушками. Посреди разбитого тротуара сама собой крутилась карусель, одиноко свистя несмазанной осью. Вете на секунду показалось, что она видит на облупившихся сиденьях детей, что грустно мелькают бледными отрешёнными лицами.
Дальше с обеих сторон потянулись нескончаемые ряды гаражей — низких бетонных коробок, запертых ржавыми дверьми. В проходах часто пестрели брошенные игрушки: медвежонок с оторванной лапой, перевёрнутый грузовичок, лопнувший мячик. Казалось, за спиной пройденные «коридоры» стремительно меркнут, но оборачиваться не хотелось. Девушка остановилась: на фонарном столбе среди истёртых объявлений желтел обрывок газеты с неразборчивой фотографией.
— «Пропал мальчик, Ваня Узелков, 8 лет. Волосы чёрные, глаза голубые. Был одет…»
— Идём, — глухо пролаял Бертран, — чем дольше она здесь, тем сложнее будет до неё достучаться.
— Почему? Что с ней случится?
— Попав сюда, дети гаснут. Развоплощаются. Это место высасывает их души.
Вета сглотнула и зашагала быстрее. Пейзаж сменился развороченными дворами с кусками лестничных маршей, изогнутыми змеями металлических перил. Рядом с гнилыми скамейками, изрисованными жуткими рожами, из урны торчали детские ботинки разных размеров. Возле маленьких разбитых очков белел носовой платок со следами свежей крови. Где-то мерно скрипели пустые качели, и скрип этот неприятно царапал нервы.
Откуда-то послышался сдавленный детский плач и тут же умолк. Когда они поравнялись с глухим деревянным забором слева, воздух наполнил гнетущий шелест, словно тысячи сумасшедших принялись неистово бредить. Вета стиснула зубы от желания закрыть уши ладонями.
Сначала шёпот крался по доскам, словно призрачная тень, но чем дальше они шли, тем разборчивее становились слова:
— Ты любименький, сыночек, родненький,
И понесут-то тебя, добрый молодец,
И по широкой-то, все гладкой улочке…
И опять:
— Да попрошу я, сиротинушка,
Что тебя, мила доченька,
Да погости, мила доченька,
Да во своем теплом гнездышке.
Теперя не неделюшку тебе неделывать
И не денечек тебе деневать…
Голоса плакали. Рыдали на все лады. Выли.
— Что это, Бертран? — прошептала Иветта. — Что это такое?
— Матери, — тихо ответил тот, слегка наклонив собачью голову. — Плачут по покойным детям. Отказались, а потом плачут.
Девушка похолодела от ужаса. Голоса были пусты и мертвы от безвозвратной потери, но такая непередаваемая горечь слышалась в них, что никакое шампанское не могло помочь.
— И прогляни-ка ты очам ясныим,
Так уж скажи-ка словечко ласково…
«Жуть-то какая… Они ошиблись и платили всю жизнь… А может, больше…»
— Из-за моря, из-за леса возвращаются,
Ждут да и дождутся,
А тебя, мой милый дитятко, не воротишь.
И не встречу я тебя на ясной тропиночке,
И никто мое горюшко не снимет
С несчастной моей головушки…
— Бертран… — она склонилась над доберманом, — и ничего нельзя вернуть?..
— Человек делает выбор один раз… — глухо пробормотал пёс и угрюмо замолчал, будто ему дали под дых.
Безликая пелена уплотнилась, рассыпав вокруг густые хлопья тумана. Запахло странно — молоком и слезами. Девушка задрала голову, небо злорадно известило: «…У ТЕБЯ НЕТ ДОМА…» и меланхолично укуталось в толстое одеяло мышиного цвета. Раздвигая руками белесую хмарь, она с трудом разглядела бурые очертания невысоких фигур и озадаченно застыла. Внезапный порыв чего-то тёмного сорвал плотную завесу и Вета отпрянула.
Дети, мёртвые брошенные дети, стояли молчаливыми рядами и равнодушно смотрели на пришельцев. Больше всего было младенцев. Пошатываясь на нетвёрдых ножках, они провожали жуткими немигающими взглядами, словно ожидая чего-то.
«Видимо, в таком возрасте больше бросают», — подумала девушка, ёжась.
Их было много, так много, что и не сосчитать. Бледные, черногубые. Чёрные кудри, бритые затылки, пыльные банты, лбы в ссадинах, и глаза, пустые, как у кукол, холодные, немые. Иветта вдруг заметила, что одни много бледнее других, словно выцвели и потеряли объём. Дети механически расступались, давая дорогу, Бертран трусил рядом, но ощущение того, что всё это — одно большое кладбище, никак не отступало.
«Где же ты? Где ты, Римма?»
Кружевные воротнички, заколки, зимние шапки… Костюмчики, жуткие лохмотья, яркие комбинезоны… Грязные щёки, сопли под носом, синяки, царапины…
Светлая чёлка промелькнула среди круглых лохматых макушек ярким лучом надежды. Пижама розовела свежим флоксом внутри клумбы увядших навеки цветов жизни. Вета даже удивилась собственной радости.
— Римма! Римма, стой! Я здесь, здесь!
Расталкивая безвольные, словно манекены, тела она пробралась к дочери, но та уже мало отличалась от остальных. Пустые глаза, апатичный взгляд, едва бьющаяся жилка на шее.