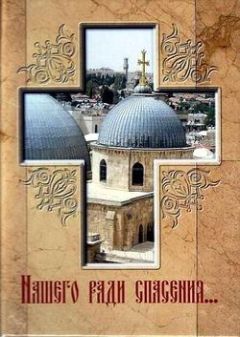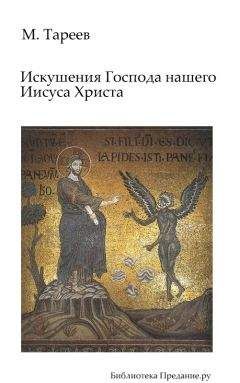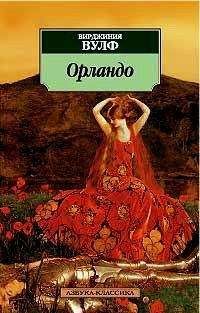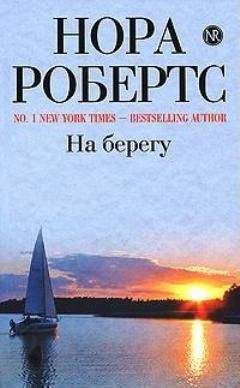Орландо Паис Фильо - Энгус: первый воин
— К лесу, Энгус! Не останавливайся! — крикнул он прежде, чем голос заглушил лязг мечей.
Я добрался до опушки леса, нырнул в густые заросли кустарника и мчался до тех пор, пока лес не стал настолько густым, что пробраться сквозь него было можно только прорубая себе путь топором. И я вдруг понял, что остался совсем один. Я оставил всех своих товарищей, я оставил Хагарта! Плечо начинало ныть все больше. Может быть, боль усиливалась еще и потому, что я был совершенно подавлен. Я был теперь предоставлен лишь сам себе, и больше не существовало приказаний, которым следовало подчиняться. Теперь я сам отвечал за все мои поступки, как правильные, так и дурные. Подумав немного, я решил во что бы то ни стало добраться до условленного места встречи, руководствуясь своим собственным чувством пространства. Я понимал также, что при этом мне еще предстояло сбить врага со следа, а кроме того, залечить свою рану без чьей-либо помощи. Словом, мне надо было выжить — и сделать это в полном одиночестве. Я поглядел на густые кусты, скрывавшие меня, словно хотел увидеть в них свою судьбу, но, конечно, ничего не увидел. Поначалу я долго стоял, будто глухой и слепой, пока не полил дождь. Через пару минут ледяные струи дождя покрыли меня, лошадь и лес непроницаемым покрывалом, таким простым проявлением жизни смыв все мои страхи. Мир не умер; ничто не могло заставить дождь перестать идти, а листья — падать с деревьев. И каким-то образом эти потоки успокоили меня, дав силы двигаться дальше, и в то же время помогая скрывать мои слезы, разделяя со мной горе. Ничто в мире не исчезает и не останавливается. Я тоже не должен останавливаться и не должен терять мужества. Я должен смело смотреть в лицо всем опасностям и препятствиям до тех пор, пока не исполню все, предначертанное судьбой, какой бы она ни оказалась. Это были прекрасные намерения, но вдруг я снова до боли ощутил свое одиночество. Небо нависало надо мной тяжелым свинцом, появившееся вдруг море стало серым, земля раскисла и превратилась в жижу — это сама природа рыдала над моими утратами, оплакивая Морского Волка, Хладнокровного, моего отца и военного вождя, который пал в неравной битве.
Я мог теперь утешать себя только тем, что его путь в Валгаллу был достоин короля. Но вместе с тем я знал, что теперь первой моей обязанностью является устроить ему пышные, достойные его доблести похороны, положить его вместе с любимой лошадью, собакой, рабынями и добычей, полученной в столь славных схватках на этой мужественной земле, на корабль, чтобы он мог достойно совершить свой последний путь к Одину. Но, увы, предательство Айвара сделало невозможной эту последнюю дань великому воину. Такое нельзя простить, и отныне я буду мстить, мстить всю жизнь — юношей, зрелым мужем, ярлом, и когда-нибудь эта месть свершится, и мой топор смоет кровавую обиду за предательское убийство отца.
Глава седьмая
Ненниус
Словно в полубреду я скакал куда глаза глядят, чувствуя только боль от удара копытом. Но сильнее боли, сильнее опасности меня терзал сжигавший сердце гнев из-за подлого убийства отца. Я глубоко оплакивал его смерть — и не только потому, что он был моим отцом, но и потому, что Морской Волк был героем и воином, человеком-скалой, подлинным защитником правды в этом мире. Защитником перед всеми неправдами мира, перед гневом природы, защитником от злых ветров и неожиданных бурь, защитником от всякого зла, что таилось в людских сердцах. Но теперь его нежность ко мне, его любовь и защита станут лишь воспоминанием, а не реальностью — и что мне с того, что память эта крепка и сильна, когда я остался один?! Совсем один. Один в этом агрессивном жестоком мире, полном ужасных неожиданностей, постоянных войн и убийств. Один в мире, где моей единственной защитой теперь являются лишь мужество и воля к победе.
Ночью, остановившись передохнуть, я все еще продолжал спрашивать себя, каким образом отец, будучи таким пылким человеком, все-таки всегда оставался и таким спокойным воином. Под очистившимся звездным небом я развел костер и думал, что все они, мужественные воины вчерашнего дня, теперь там, на небе. И это они смотрят на меня ясными звездами своих глаз. И отец конечно же является самой яркой звездой в этих бесконечных россыпях небесных созвездий.
Лежа в траве, я вдруг подумал, что, скорее всего, не один оплакиваю гибель Морского Волка. Храбрые воины, всегда сопровождавшие его в походах и сражениях, теперь тоже оплакивают его и наверняка все еще стоит у них в ушах его громкий голос, который умел и приказать, и ободрить, который гремел словно гром в самой гуще любой битвы, который воодушевлял и вселял надежду. Этот голос уверял всех вокруг, что пока они на земле, их охраняет он, Морской Волк, а когда они уйдут той дорогой, по которой уходят храбрецы, их будут охранять сами боги.
И вот, имея единственными своими свидетелями звезды, а единственным другом одиночество, я позволил, наконец, как ребенок, своей боли взорваться неудержимыми рыданиями. И я плакал не только об отце, я вспоминал обо всем плохом, что успел уже сделать в жизни, обо всех задушенных угрызениях совести. Потеря отца и его защиты заставила меня пересмотреть всю жизнь, все битвы, все убеждения, все верования. Плач, рвавшийся из моей груди, почему-то заставил меня еще глубже заглянуть в себя и прийти к выводу, что даже решительный воин порой отступает перед страхами, таящимися у него внутри. Перед страхами, не имеющими ничего общего с теми, с какими он сталкивается в бою. И чем больше я понимал свое нынешнее положение, тем яснее осознавал — хотя это и давалось мне совсем не просто, — что некогда и мой отец испытывал такие же трудности. И продолжая думать об этом, я в конце концов пришел к выводу, что трудности — это всего лишь другая грань величия настоящего воина, что пересмотр всей своей жизни тоже требует не меньше мужества, чем война, и что слезы умывают нашу душу.
Именно с ощущением омытой слезами души я и проснулся на следующее утро в лесу. Тогда я умыл лицо водой из холодного ручья, протекавшего в мягком зеленом мху. Потом обмыл рану и как следует напился, и только тогда смог ощутить прохладу утреннего ветерка, который словно приглашал меня пуститься в новый путь к новой жизни, судя по всему, ожидавшей меня впереди. И это чувство с каждым утренним часом становилось все явственней, особенно по мере того, как я начал вспоминать спокойные беседы, что вела со мной мать. Наконец-то я вынужден был признать, что жизнь заключается не только в боях и походах. Мягкий голос матери повторял мне о самых простых вещах, что нас окружают: о козах, о ручье, о лесе, о снеге в горах, обо всех проявлениях жизни в ее бесконечном разнообразии. И все это бесконечное разнообразие простого и спокойного мира объединяла в единое целое вера в Того, Кто сотворил мир, в Бога-отца, как мать называла его. Это был сильный и добрый Бог… Или все-таки их было двое, поскольку вслед за первым, Богом-отцом, мать всегда упоминала и второго — Господа нашего Иисуса Христа.