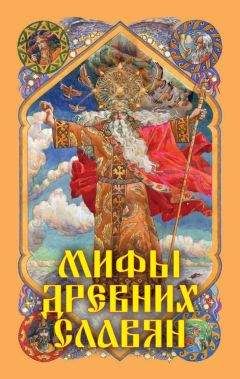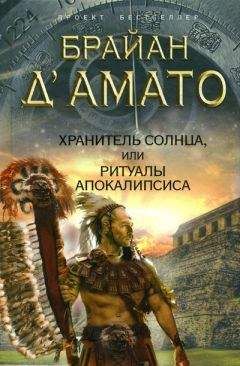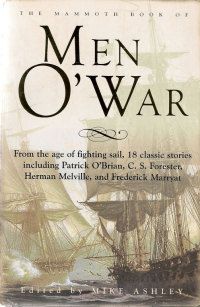Майя Тобоева - Дева гор
Имэн отвернулась:
— Увидят, не увидят… Все одно. Здесь она всегда будет чужой.
При ее словах в очаге полыхнуло, напуганная кроха залилась плачем, и Нэкэ суеверно подумала: она поняла горький смысл сказанного матерью. Подхватив девочку на руки, прижала к себе, укоризненно глядя на Имэн:
— Что ты… разве можно так… Беду на дитя накличешь!
Та усмехнулась:
— Беду… Беда в один час с ней родилась. И со мной…
Когда Эйки пошел пятый год, пошли слухи, что женой Мэкчира овладели лесные духи. Целыми днями бродила она где-то, совсем забросив хозяйство, и Нэкэ, штопая ее изорванную о коряги и ветви одежду, ломала голову: может, отвести Имэн к отшельникам?
Весной жрицы Белоликой и жрецы Златокудрого с пением проходили мимо селения — босые, с окровавленными ногами, непрестанно бия поклоны, а потом укрывались до осени в пещерах близ Скалы слез. Женщины носили туда еду, но святые отшельники показывались редко, однако в случае крайней нужды можно было обратиться к ним с просьбой помолиться за страждущего.
Нэкэ осторожно завела разговор о них, — Имэн промолчала. А злые языки не умолкали — придя однажды к колодцу, Нэкэ услышала свистящий шепот Харанач:
— Эта ведьма в чащобе с нечистыми забавляется… Старший мой увидал ее там и чуть ума не решился — думал, лесная дева по его душу пришла…
Нэкэ ни словом не обмолвилась о том ни Мэкчиру, ни его жене, хотя сердце болело за маленькую Эйки, но когда в селении заговорили о том, что безумная рыбачка таскает на гульбища к духам свое отродье, не выдержала:
— Ты бы хоть дочку в лес не брала… Люди всякое болтают…
— Болтают… Знаю я, что они болтают. Всю жизнь шепоток за спиной: «Дэхтэ…» По-вашему — ведьма, у которой даже имени нет. И в жены ее никто не возьмет. Бабка моя — дэхтэ. Родила мою мать и ушла. Ни разу ее потом не проведала. А как мы с Мэкчиром уходить собрались, вдруг появилась. Дар передать хотела. Но не хочу я такого дара, не хочу… Так ей и сказала. А она: «Не спорь с судьбой, глупая девка…» Теперь ночами мне снится… Каждую ночь приходит. Зовет. Это знак. Дар сам находит того, кто ему нужен. Откажешься — помрешь или спятишь. Я уйти должна.
Она сидела, неподвижно глядя в огонь: глаза — как бездонная пучина, что своего не отдаст — не убежишь от нее, не спрячешься…
Это был их последний разговор. Вскоре Имэн ушла — тихо и незаметно. Сгинула, будто ее не было вовсе.
Прослышав об исчезновении чужачки, соседки сбежались к Нэкэ, как козы на водопой: не терпелось узнать, что да как, но она, не сказав ни слова, заторопилась к Мэкчиру и Эйки.
…Хмельной дух ударил в нос с порога. Она в нерешительности остановилась: разве с хозяином дома сейчас поговоришь? Может статься, бедняга ее спьяну-то и не узнает.
Сидевший на топчане Мэкчир, услышав скрип отворившейся двери, поднял голову, и, уставившись на гостью мутным взглядом, прохрипел, раскачиваясь из стороны в сторону: «Я знал. Знал, что она уйдет».
Хоть соображает. Но он что тут — один?
— Дочка где?
В темном углу зашуршало, и Нэкэ увидела сжавшуюся в комок малышку: щечки, недавно пухлые и румяные, ввалились, в глазах застыл страх. Дав ей принесенную с собой лепешку, Нэкэ развела огонь, чтобы сварить похлебку:
— Эйки, у мамы… у вас есть соль?
Та, успев расправиться с половиной лепешки, шустро взобралась на лавку и, встав на цыпочки, ловко стянула с полки завязанную в узелок тряпицу. В отблеске пламени блеснул на ветхой рубашонке амулет — птица с серебряными крыльями.
— Это тебе мама дала?
Девочка молчала.
Годы спустя, пытаясь вызвать в памяти образ матери, Эйки всякий раз с горечью убеждалась, что не может вспомнить ее лица: смутно виделась светлая улыбка, озарявшая забытые черты, и волосы, пламеневшие на солнце. Порой казалось, что у нее и не было никакой мамы, а они с отцом всегда жили одни в своем домишке на отшибе. Лишь этот амулет говорил об обратном — и лесные птицы, слетавшиеся со всех сторон, стоило ей выйти за околицу. Раньше эти птицы прилетали к маме. Эйки помнила ее слова:
— Скажи им: «Та кама амаки», и они подлетят к тебе.
«Та кама амаки…» Что это значит, мама не объяснила, а Эйки часто повторяла про себя непонятные слова: пока она помнит их, мамины птицы будут прилетать к ней…
Пересуды после исчезновения чужачки не стихали долго: «Даже волчица волчонка своего не бросит! Хотя… что с них возьмешь, с морских бродяг!» Еще большее негодование вызвала попытка Мэкчира найти жену: «Совсем про гордость забыл! Пускаться вдогонку за этой распутной бабой, чтобы снова нас всех опозорить!» И Нэкэ была против его затеи, но он, презрев всеобщее осуждение, ушел с караваном купцов и паломников, прихватив с собой дочь.
Купцов, выгодно сбывших в Дэкире и соседних с ним селениях свой товар, а обратно везших шерсть и изделия искусных дагнабских ткачих, сопровождала охрана. У главного через все лицо шел шрам, и Эйки в первый день, позабыв обо всем, уставилась на него, но он метнул такой мрачный взгляд из-под насупленных бровей, что она потом долго боялась на него смотреть. Зато бездетная пара, отправившаяся на богомолье, чтобы вымолить у Белоликой дитя, души в ней не чаяла: жена — маленькая, хлопотливая, проворная — причесывала ее, заплетала косички, угощала чем-нибудь, а муж, чем-то неуловимо похожий на жену, подарил собственноручно вырезанную из дерева птичку. Эйки нарекла ее «Амаки», а когда они с остальными путниками на привалах принимались за еду, обмазывала крошечный клюв молоком и «кормила» с ладони крошками.
Еще был мул по кличке «Прорва» — он, как голодный пес, вечно вынюхивал, чем бы поживиться, и, по уверениям хозяина, сожрал однажды его кушак, после чего и получил это имя взамен первоначального. Прорва и правда норовил стянуть все, что плохо лежит, и во время одного из привалов оставил своего владельца без обеда, опустошив оставленный ненадолго котелок с похлебкой. Погонщик набросился на него с бранью, и, спасая воришку от хозяйского гнева, Эйки кинулась к нему с криком: «Не бей его, я тебе свою птичку отдам!» И тут словно из-под земли вырос человек со шрамом — вырвал у хозяина Прорвы кнут, отшвырнул в сторону, и, не говоря ни слова, вернулся к прерванной трапезе. После один из охранников принес Мэкчиру с дочкой кусок поджаренного на углях мяса. С того дня лепешки свои Эйки всегда отдавала Прорве, потому что они с отцом пользовались покровительством охраны до самого прибытия в Белый город.
Там они попали на празднование Йалнана. Эйки запомнились высокие башни под пронзительно-синим небом, разноязыкий людской гомон на вымощенных камнем улицах, еще более многолюдных, чем обычно: вихрем проносились мимо кавалькады всадников в алых плащах, ниспадающих на гладкие крупы коней, чьи золотистые гривы летели по ветру, и теснящиеся вдоль стен зеваки радостно приветствовали их.