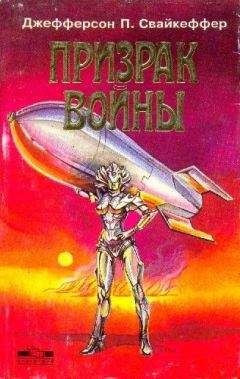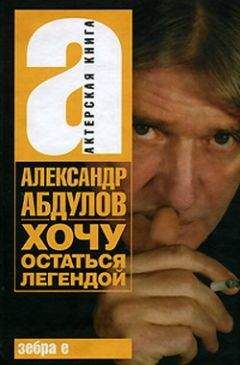Джефферсон Свайкеффер - Паутина будущего
Мэддок согласно кивнул головой:
— Я… мне жаль.
Скаска подняла голову и взглянула на Мэддока немного повеселевшими глазами.
— У меня была и другая причина.
— Да? И какая же?
Она улыбнулась:
— Ведь вы все же остановились, когда я сказала это.
Мэддок повернулся к ней, оказавшись лицом к костру, и в его по природе веселых глазах отразилось тепло огня.
— Да, я остановился. — Он немного поразмышлял и улыбнулся вместе с ней. — Я остановился.
Глава десятая
Мэддока разбудило легкое прикосновение к его плечу. Некоторое время он глупо моргал, не в силах оторваться от сна, и в какой-то момент ему показалось, что он снова находится в пансионе миссис Фланнэген в своей высокой узкой кровати, укрытый стеганым одеялом ввиду скорого наступления зимы.
Была глубокая ночь, и Валентин тихо подобрался, чтобы разбудить его. У каталонца в свободной руке был факел, который, впрочем, весьма слабо освещал окружающее пространство. Воздух был густой и молочно-белый от поднимающегося с реки тумана. Факел освещал лишь небольшой участок травы и часть нижних веток дуба вверху.
— Она вернулась, — сказал Валентин, понизив голос до еле слышного шепота.
С трудом поднявшийся Мэддок некоторое время соображал, кого Валентин имел в виду.
— Что? — спросил он, словно каркнув спросонья.
Потом он криво ухмыльнулся и тряхнул головой. Мэддок О'Шонесси никогда не был особенно красивым мужчиной, но особенно ужасно он выглядел после сна, весь в морщинах, словно новорожденный ребенок. Он начал раздувать щеки и протирать суставами пальцев глаза. Затем он, внезапно осознав, в чем дело, взглянул на Валентина.
— София?
— Си.
— С ней все в порядке?
— Пойдем посмотрим.
Валентин медленно попятился назад, и Мэддок последовал за ним. Он спал в одежде и, к своему великому огорчению, обнаружил, что с левого бока он весь промок до кожи; слава Богу, его правая сторона была почти сухой. Он шел по блестящей скользкой траве, с которой в его сапоги тоже попало немало влаги.
Около фургона у Софии и Темплетона шло тайное совещание с генералом Бакстером и его лейтенантом. Они говорили тихо, чтобы не было слышно остальным.
— Мы обязаны арестовать вас, — сказал Бакстер. Он просто констатировал факт. — Убит офицер. И это только первое из целого списка ваших преступлений.
— Эти преступления, — спокойно ответил Темплетон, — совершены во имя свободы.
Он обращался с генералом как с равным, хотя и не держал пистолета в руках.
— С точки зрения морали это не есть оправдание… — Бакстер остановился, затем закрыл глаза и покачал головой. — Простите.
Он взглянул на Темплетона, и даже при тусклом свете факела приближавшегося Валентина его лицо казалось каким-то серым.
— Здесь не место для чтения лекции о моральности ваших действий. Но я тоже обязан выполнить свой долг.
Темплетон едва заметно улыбнулся:
— Да, сэр. А я свой.
Больше им нечего было сказать друг другу.
Валентин приветствовал Софию более жизнерадостно; он встретился с ней взглядом, улыбнулся во весь рот и, протянув руки, обнял ее, продолжая держать факел за ее спиной. Затем он чуть отошел назад и, забыв обо всех присутствующих, стоял с сияющим лицом, довольный уже тем, что видит ее перед собой.
— Мистер Валентин Генаро Эстебан Диас, — сказала она и улыбнулась ему в ответ.
Это была одна из самых очаровательных и кокетливых улыбок, которые стоявший рядом Мэддок когда-либо видел.
— Ваше присутствие представляется мне более чем нескромным, — в конце фразы она не выдержала и рассмеялась.
— Я очень боялся за вас, — признался Валентин с покрасневшим от смущения лицом.
— И только? Именно из-за этого вы бросились на меня? — И хотя слова ее звучали строго, улыбка не сходила с ее лица.
Смущенный Валентин еще дальше отступил назад.
— Простите.
Он бы отступил еще дальше, но на его пути стоял Мэддок.
— Не убегай, дурачок, — шепнул Мэддок на ухо своему другу. — Она вовсе не сердится на тебя, ни в малейшей степени.
— Что?
Валентин поочередно смотрел то на Мэддока, то на Софию, смущенный и восхищенный одновременно, и теперь Мэддоку приходилось с трудом сдерживать смех.
И ему это удалось. Всего двое суток назад у костра на берегу лесной речки он поддразнивал Валентина. Мало задумываясь над тем, что человек страдает от холода, он всячески подшучивал над ночными страхами каталонца. Но сейчас, в этой находящейся далеко в пространстве и времени стране у Валентина появился шанс найти нечто более ценное, чем просто теплоту.
Мэддок повернулся и пошел, желая оставить Софию и маленького каталонца наедине. Он медленно и очень тихо вышел из освещенного пространства. Его брюки промокли от холодной ночной росы, а сапоги затвердели и болтались на ногах, словно принадлежали кому-то другому.
Идти ему было некуда и незачем. Сейчас он осознал, что так было всегда, и, в сущности, это означало, что у него не было прошлого. Его дом был не более чем неудачной шуткой; разве можно назвать домом жизнь в рабстве у старой карги домоправительницы? Где его семья? Где друзья?
Его внимание привлек маленький красный огонек, светящийся впереди у самой земли. За неимением лучшего Мэддок направился к этому огоньку.
Свет исходил от горячих красных квадратов ткани, с которыми проделывал свою работу Стенелеос Магус LXIV. Высокий и покрытый черным мехом маг, стоя на коленях, терпеливо переворачивал эти маленькие носовые платки, охлаждая их о мокрую холодную траву. В местах, где ткань касалась холодной влаги, свечение становилось более тусклым. Мэддок мог видеть только огромные руки Стенелеоса, казавшиеся такими неуклюжими, совсем не подходящими для работы прачки.
— Могу ли я чем-нибудь помочь? — сказал Мэддок, помолчав немного.
Стенелеос взглянул на него. В его глазах отразился бледный, еле видный свет, исходящий из человеческих душ.
— Да, — ответил он.
Мэддок, не обращая внимания на сырость и холод, опустился на колени рядом с магом и взял один из квадратиков за дальние концы. Ткань жгла, жалила. И жалила она не столько плоть, сколько нервы, идущие от основания мозга к кончикам пальцев. Мэддок ощущал это очень отчетливо. Ведь искусство скрипача заложено и в его душе, и в его пальцах. Почему бы и любому другому человеку не чувствовать руками душевную боль?
Мэддок делал дело, стараясь не обращать внимания на боль. Когда он охлаждал жар ткани, опуская ее в травяную росу, боль в пальцах несколько утихала. Он знал, что душа — это не человек, но был рад, что хоть чем-то может облегчить чьи-то муки.