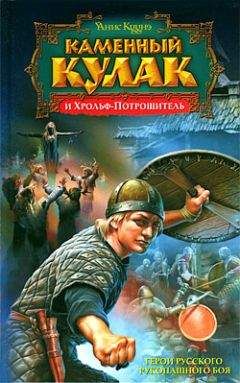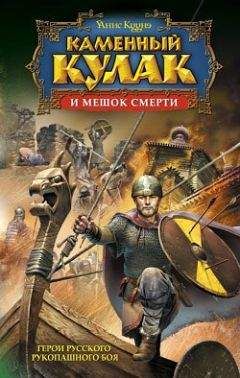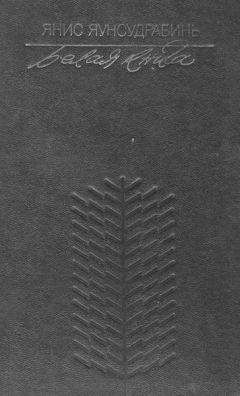Янис Кууне - Каменный Кулак и охотница за Белой Смертью
– Отче, а ты научишь меня по-карельски чирикать? – мечтательно спросил Рыжий Лют.
– Ну, попробовать, конечно, можно, – ответил Хорс, и почесывал в затылок.
И была у ягна серьезная причина скрести черепушку. Для весомости хотел он ответить сыну на языке своего отца, но тут обнаружил, что знакомые с детства слова разбегаются от него, как куры от лиса. Оно, конечно, понятно: уже, почти двадцать лет минуло, как говорил он все больше по-венедски и почитал венедских богов. Стоит ли удивляться, что бестолковый его сын, который повсюду называет себя «венедом белым», ничего не знает про Лемби. Да и знал бы, что в том толку, если Велес дурьей башки даже мизинцем не тронул, зато разудалый Ярило[147] у него в микитках свое капище обустроил и идола там водрузил молоточной рукоятке под стать.
– У венедов говорят, – озвучил Хорс свои нелегкие мысли: – дитя надо учить, пока поперек лавки лежит… Ну, да ничего. И я в молодечестве возле мамкиного подола не шился. Тоже чуть в яму черную не угодил… Знамо дело – дурь молодецкая… Так, что ежели ты и вправду решил за ум взяться, то кому, как ни отцу, тебе в том помогать.
– Только отче, – опять замялся Ольгерд: – Не надо пока никому говорить про то, что я жениться хочу… Ну, мало ли…
– Мало ли, от ворот поворот дадут, – закончил за него отец: – Насколько я разумею, такая девка может и сватов взашей выгнать, да и самого жениха стрелой между глаз приветить. Ну, да ни беда. Домину тебе поставим. Поле раскорчуем. Самого Годину Евпатиевича в сваты позовем. Может, и уговорим твою любаву…
– Отче, а как дом-то ставить будем, все ж догадаются, – промямлил сын.
– А ты как хотел? – опешил Хорс.
– Не знам, – потупился Олькша: – Может сперва просватать, а потом уж огород городить.
– Вот ты, Ярилова палица, – озлился могучий ягн: – Хочешь и на елку влезть и морду не поцарапать?!
– Ну, отче…
– Что «отче»?! Хочешь зазнобу в отцов дом привести да на общей полати молодку пахати?! Точно смерд какой безродный?! Что мы хуже Годины стоим? Так ведь нет! И мы не воду из озерины[148] вместо сбитня хлебаем! Не гоже так! А ежели ты в себя не веришь, так неча и на инородную девку зариться. Возьми вон какую-никакую дурочку венедскую. Да сватов от тебя половина девок по Волхову и Ладоге ждет, не дождется. Потому как я вот этими самыми руками хозяйство крепкое поднял и держу его, не дрогну.
Хорс распалился не на шутку. Еще немного и негодование отцовской души выплеснулось бы крепкой затрещиной сыну в лоб. Но из-за угла дома показалась голова младшей дочери, Удьки, Удомли – в честь бабки, и разговор оборвался.
– Ссоритесь? – ехидно спросила Удька.
– А тебе-то что? – в один голос и в один лад спросили молодой да старый.
– Если ссоритесь, значит, хворь из вас окончательно вышла, – рассудила девчонка: – Теперь опять в три горла жрать будете.
– Ты посмотри! – хохотнул Хорс: – Сама рыжая, конопатая, а языком ворочает как лопатою. Да разве тебя кто объедал раньше?
– Объедал.
– Кто? – опять в один голос спросили мужики. Но на этот раз вопрос у каждого звучал по-разному, а Олькша исподтишка показал сестре кулак.
– Он, – выпалила Удька и отбежала на десяток шагов.
– Ах, ты короб для харчей! – в шутку осерчал Хорс. Ему ли не знать, что его дети всегда были сыты, хотя и не всегда отцом привечены: – Дитё малое объедал! Вот тебе, вот!
Надавав первенцу шутейных тумаков, отец крикнул Удьке: – А ты, дереза, на кой Лих приходила? Обучи по капельным лужам мочить?
– Не-е-ей, – ответила девочка: – Мамка обедать звала. Да прежде велела подслушать, о чем вы тут толкуете.
– Подслушала? – спросил Хорс.
– Не-е-ей. Так спешила, что забыла… – созналась Олькшина сестра. Не в пример старшему, была егоза сметлива и хитра. Даром, что рыжая.
Соврала Удька и затаила проведанное до поры или и вправду ничего не слышала, но только, когда Хорс с Олькшей в начале Цветня шли на пахоту, все соседи аж рты от удивления поразевали. Никогда еще венеды так громко не желали ягну удачи в поле и дома.
Да куда ей, Удаче, в поле деваться, когда там ворочали землю два таких великана. Один крепче другого. Молодой да матерый. Кудлатый да косматый.
От натуги на быке ярмо расщепилось, так сын дышло руками тянул, а отец оралом правил. За два дня всю ярь вспахали, переборонили и засеяли. Пока прочие Ладонинские самоземцы думали да прикидывали пахать – не пахать, Хорс и Ольгерд уже с полей пахарскую утварь везли.
Может быть, оттого никто в Ладони и не удивился, когда через день-другой начали они валить деревья по соседству с Хорсовым полем. Всем же понятно, что при такой-то мощи можно и в два раза больше земли засевать. А жита никогда много не бывает, коли нажито жито без грыжи. Избыткам всегда оборот найдется.
Но не только в поле, а и в доме у Хорса все переменилось. В любое свободное время отец с сыном обосабливались в затишке и о чем-то шептались. Если бы кто их подслушал, то подивился бы, уразумев, что Рыжий Лют, который во всех языках Гардарики знал только ругательства, со всей прилежностью недоросля овладевал карельским наречием. Медленно давалась верзиле наука. Порой Хорс был готов прибить сына насмерть за тупость и короткую память. Но что-то все же задерживалось промеж Олькшеных мясистых и веснушчатых ушей: не споро, как хотелось бы отцу, но и не безнадежно медленно он начинал говорить на языке предков все правильнее и правильнее.
Однако не только карельское наречие передавал отец сыну. Все то, от чего, невзирая на побои, Олькша убегал в отрочестве, вся непростая житейская мудрость самоземца были теперь для него как былицы для дитяти. Рыжий Лют слушал и спрашивал, спрашивал и слушал.
Чем сильнее менялся Олькша, тем больше недоумевала Ладонь. Бабы не давали Умиле прохода, и так, и сяк пытая мать Рыжего Люта о том, как ее мужу удалось отвадить балбеса от праздности и бедокурства. Но она клялась самыми страшными клятвами, что не ведает, как такое и получилось-то.
Через эти чудеса соседи стали иначе смотреть и на Хорса. Раньше он был для них инородцем, пришедшимся ко двору своей небывалой силой и бескорыстной отзывчивостью. Объявился он примаком[149] в семье одного из самых захудалых Ладонинских самоземцев. Через пару лет, когда Зван, отец Умилы, зачах от сухотки, он встал на хозяйство и с двужильным напором принялся его из Недоли вытаскивать. И вытащил. И теперь жил на широкий двор, так что впору было работников заводить. Да только поперек нутра было ягну на чужом хребте ездить.
Вот только детьми Дид[150] не сильно Хорса одаривал. Что ни год ходила Умила брюхатая, да только детки мерли в родах или младенчестве. Выжило всего трое. Сыновей двое: Ольгерд, первенец, и Пекко-молчун, на шесть лет младше. И дочка одна: Удька, нежданная радость, егоза и постреленыш. Да, только так с Олькшиного малолетства повелось, что, как только речь о нем заходила, так отеческая кручина и омрачала душу могучего ягна. Ни крику, ни колотушкам не внимал детина. Баловал и сквернословил так, что казалось, не найдется на него управы. И вдруг, в одночасье из оторвы и бестолочи получился вон какой столпище для отцовской славы. Ни дать, ни взять Дид с Велесом выказали Хорсу милость за труды его.