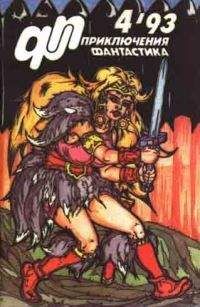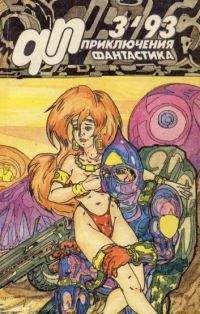Алиса Акай - Иногда оно светится (СИ)
Я повернулся к нему. Котенок стоял с каких-то двух шагах, напряженный и скованный. Изумрудные глаза пылали злостью, но не ярко, как обычно, а матово.
— У меня нет здесь четырех сотен, — сказал кто-то, может и Линус-Два, губами Линуса-Один, — Если хочешь, могу выписать тебе чек на предъявителя.
Я взял у него из рук карабин, некоторое время молча разглядывал его. Просто тяжелая железяка, грубая и уродливая. Инструмент смерти. Простое и понятное человеческое изобретение. Котенок следил за моими движениями.
Я улыбнулся, выставил ствол в окно и нажал на спусковой крючок. Курок клацнул. Я нажал еще раз. Еще одно «клац-цц-к!». На третий раз тишину спальни распорол утробный грохот, карабин так дернуло, что я едва удержал его в руках. В носу защипало от запаха сгоревшего пороха, лица коснулась теплая волна. Котенок задумчиво глядел в окно — наверно, пытался увидеть брызги картечи, которая входит в воду. Я разглядел их в сотне метров от маяка — просто неожиданно появившуюся рябь.
— Четыре сотни?..
Он промолчал.
Я переломил ствол, вытряхнул три цилиндра. Два остались такими же, третий был разорван с одного конца. Он пах порохом и чем-то еще. Я не глядя выкинул все это в окно. Сложил приклад, положил оружие в сейф и захлопнул дверцу.
Может, мне стоило что-то сказать. Котенок молча стоял рядом и смотрел в пол. Но я сказал только:
— Я принесу тебе еды. Как ты относишься к моллюскам?
ГЛАВА 7
Весна стала проявлять себя. Я уже ощущал на своем лице ее осторожное, поначалу робкое дыхание. Она еще не пришла, нет, у моря по утрам был холодный и угрюмый вид, но уже несомненно приблизилась. Я слышал ее нотки, как опытное ухо дирижера слышит в упорядоченной какафонии оркестра тонкое позвякивание литавр, далекое как звезды на ночном небосводе.
Компьютер, следивший за погодой, обещал скорое наступление теплого сезона.
Это значило купание без осточертевшего за зиму гидрокостюма, теплые соленые россыпи брызг, встречающие тебя, когда выходишь пройтись на косу, стрекот беспокойных птиц, ныряющих за рыбой. Весна. Обновление. Словно невидимая рука задергивает новую, еще пахнущую краской, занавесь, прикрывая иссохшие и постаревшие, истоптанные ногами актеров доски сцены. Переход. Новые краски неба.
Я никогда особо не любил весну, сколько себя помню, хоть и знал, что на меня она действует благотворно. Выпускает старые перебродившие соки уставшего организма, осветляет потемневшие глаза, впрыскивает в жилы докучливую, но приятную щекотку перемен.
Фамильный замок ван-Вортов в это время всегда напоминал всполошенное гнездо большой птицы — все громко, нараспашку, застарелая пыль взметается по углам… Прислуга проворно открывает окна, проветривает застоявшиеся, впитавшие тяжелый зимний дух, залы, натирает дерево и мрамор, перетаскивают мебель. А ты пытаешься удержаться в этом кипящем водовороте перемен, приучить глаза к яркому солнцу цвета очищенного персика, которое нагло лезет внутрь, заставляя внутренние тени замка трепетать. Знакомые лица делаются как будто прозрачнее, глаза — блестящие черные камешки. Весна, Линус, весна пришла…
Оживают голоса, журчат беспокойно в глухих закоулках, звонкий цокот подошв… С кухни пахнет чем-то свежим и непривычным, но даже этот запах не может заглушить аромат, просачивающийся сквозь толстые каменные стены, аромат парной земли, разлитого в воздухе меда, пробивающихся листьев…
Мой первый отпуск пришелся на весну, на второй ее месяц. В ту пору мне уже было семнадцать и я был долговязым, немного нескладным подростком с резкими движениями, такими, будто я еще не до конца привык к своему телу. Тонкий хвост волос, перехваченный форменной черной лентой, белоснежный мундир, настолько белый, что по сравнению с ним снег показался бы желтым, кадыкастая тощая шея в отвороте форменного воротника с черными нашивками Академии. На боку пустая — пока пустая! — кобура, на лице — смущенное выражение человека, который осторожно заглядывает в незнакомую комнату и еще не знает, что же именно он там увидит. Кадры фамильного архива, я помню их наизусть. Мне было семнадцать и я впервые с начала обучения вернулся на Герхан. Небольшая поблажка перед следующим этапом.
Там же был и брат, его тоже отпустили на две недели. Мы встретились с ним так, словно не видели друг друга десять лет. Он вытянулся, стал широк в плечах, но в нем не появилось скованной массивности неуклюжих людей, его фигура была совершенней любой из фамильных статуй. Большие коричневатые руки с широкими ладонями, ясный взгляд светло-голубых глаз, желтый шнур на груди.
Он не был мне родным братом, но я всегда его так называл. И даже если думал о нем, то в мыслях он тоже был Братом. На самом деле он приходился родственником, из числа тех, которых редко видишь, но которые занимают соседнюю ветвь генеалогического древа, того странного и неизвестного ботаникам растения, которое стремится соорудить из себя огромный, хаотически запутанный узел. Его род когда-то давно, когда еще не родился мой прадед, был нашим общим, но со временем отделился. И весь погиб, когда их космическую яхту расстреляли варвары. Обычные космические грабители, мелкие хищники безвоздушных пространств, они рассчитывали на богатую поживу, когда видели на белом борту переливающуюся золотом эмблему Герхана. Весь род кроме него оказался вырублен с корнем. Не знаю, как он пережил это, тогда мы были еще мало знакомы, но в его взгляде навсегда осталась какая-то горчинка, что-то, что трудно рассмотреть, но, рассмотрев, замечаешь это постоянно.
Отец принял его как собственного сына.
Брат двигался с уверенной пленяющей грацией настоящего воина и кобура его уже не была пуста. Я как зачарованный смотрел на сверкающую рукоять логгера, недостижимый пока для меня символ, краснел и отшучивался. А брат смотрел на меня и улыбался. Он-то чувствовал себя несоизмеримо старше. Два года — много для Герхана. Из такого, каким я его помнил, он превратился в мужественного юношу, военный мундир сидел на нем так, словно каждый его атом был подогнан под фигуру. Длинные светлые волосы падали почти до лопаток.
— Брат… — сказал он, когда мы наконец выпустили друг друга и сделали по шагу назад чтобы посмотреть друг на друга еще раз, — Тебя не узнать!
На его шею, наверно, вешаются все без разбору — подумал я тогда, чувствуя и зависть и радость одновременно. Он и в самом деле выглядел безупречно. Высокий, в своем новеньком мундире, с развивающимся за спиной вихрем уложенных один к одному волос, с лицом, в котором соединились все черты ван-Вортов. Я всегда ставил себе в укор то, что в детстве смотрел на него как на объект для подражания. Сколько себя помню, он всегда был для меня чем-то бОльшим, чем просто человек, в чьих жилах течет кровь, сходная с моей. Он был… Большим светлым пятном, которое светило сквозь мою жизнь, также, как светит яркая лампа сквозь старинную фотографическую пленку с негативами изображений. Все мое детство было связано с ним, любые шалости и проделки совершались только с ним, он был моим извечным компаньоном во всем, что только можно было придумать.