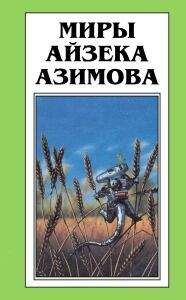Евгения Кострова - Лазурное море - изумрудная луна (СИ)
Анаиэль поднял глаза на стоявшего рядом с отцом старшего брата. Внешне оба брата отличались друг от друга, и все же в лицах обоих проглядывались единые черты. Смоль волос старшего была темнее сумрачной ночи, глаза же были оттенка расплавленного золота, кожа сияла темной медью. К своему совершеннолетию Илон де Иссои достиг небывалой рослости в сравнении с его ровесниками, он был высок и подтянут, а через плотный материал черной туники проступали рельефные мускулы. Он был сдержан и молчалив, и больше походил серьезностью на отца, нежели на их покойную мать, скончавшуюся после тяжелых родов второго сына по речам благородных мастеров, занимающихся воспитанием и обучением наукам и молвой в людской среди прислуги. У него была удивительная прямая осанка, и каждый контур точеного красивого лица отливал благодушием и мужеством. Илон предпочитал точные науки и тактику, и многие отмечали высокую развитость способностей в высокой математике, быстрому усвоению инородных наречий. Старший брат прекрасно изъяснялся на нескольких славянских наречиях, тогда как читать предпочитал древнекитайские тексты, а его общий язык звучал богаче и ярче родного диалекта. Он всегда почитал богов, отдавая должное коренным обычаям каждого племени и древнего рода, и ни разу его честь не была запятнана непристойностью порока или безнравственного поведения, к которому склонялись многие из дородных чад высоких чиновников. Даже в самые тяжелые дни, которые переживала Империя, сражаясь за граничащие земли с Британией, старший брат оставался хладнокровен и рассудителен, принимая ответственные решения и помогая стоящим по старшинству в звании, находясь в самых опасных регионах среди простых солдат. И Анаиэль во многом мечтал походить на родного брата. Его увлекало восхищение и гордость, испытываемые Илоном за Родину, его искреннее упорство в совершенствовании и приобретении новых знаний, непосильный и нескончаемый труд. Он никогда не предпринимал случайных и поспешных решений, и в каждое действие молодой дворянин вкладывал всего себя. Им гордился весь Сион, и в день толкования судьбы люди выходили с золотыми чашами, полные до краев сладкой мирабели, красного винограда, сочащегося холодным соком и темного крупного изюма, инжира и фиников, открывали бочонки старого игристого белого вина, и раздавали детям в серебряных пиалах варенья из айвы.
Даже сейчас он сохранял спокойствие, которого так не хватало жрецам и собравшимся эмиссарам, подчиняющимся главенствующей ветви семьи, чьи лица пересекла гримаса отчаяния, и тень отвращения легла под поблекшими глазами. Разбились хрустальные фужеры, когда одна из служанок прикрыла руками уродливо раскрывшийся рот, выронив серебряный поднос, и со слезами опустилась на колени, оплакивая несчастный жест судьбы, а Анаиэль заворожено следил за потоком драгоценных рубиновых капель, разливающимися багровыми реками, вышедшими за берега во время бурного половодья, и бьющегося стекла, разметавшегося по половицам. Мальчик мог расслышать, как натянулась кожа толстых пальцев на руках, усыпанных золотыми кольцами, как бросилась кровь на расплющенные толстые щеки, как вздулись вены на шеях мужчин, и как сползали капли пота по вискам разрумянившихся лиц, как проходил густой поток дыхания сквозь стиснутые зубы. Илон стоял возле высоких арочных окон с раскрытыми бархатными красными занавесами, и со сложенными на груди руками, наблюдал за торжественным ритуалом, и лишь кроткий вздох и наклон головы мог говорить о его разочаровании, которого впрочем, не скрывал отец. Руки его безудержно тряслись, даже когда мужчина стиснул их в кулаки, пытаясь остановить в себе вырывающийся гнев. Тогда Анаиэль впервые увидел злость в глазах горячо любимого отца, ярость, отравляющую сердце, и, прочитав в расколотых грезах небес ненависть к себе, горящую в прозрачно-голубой синеве, пристыжено опустил голову, и плечи его поникли, как под сокрушительной тяжестью. Но боль не длилась долго, хотя она раздробила колени. Взгляд его прояснился и отвердел, плечи расправились, а движения были уверенными и действенными, хоть кончики пальцев его окоченели. Он сложил праздничные ленты, смазав их собственной кровью, и когда пламя с деревянной палочки, вырезанной из ветвей грецкого дерева, перебралось на белый атлас, удерживал расшитую жемчугом ткань, пока та не стала черным пеплом над золотым чаном с освященной водой. Крупные жемчужины, срывались с обожженных и растерзанных пламенем нитей, падая белыми гроздьями в стеклянный омут. И когда зазеркалье поглощало бусины, опадающие в самый центр дна, украшенного арабской резьбой и огибающими звезды каллиграфическими надписями, Анаиэль сложил вместе ладони рук, прижимая кончики указательных пальцев к губам, и медленно, но лаконично возобновил чтение молитвенных воздаяний небесному престолу. Голос его лился плавным и нежным стихом, ударения были правильными, дыхание ровным, и многие бы позавидовали столь юному отроку в чтении и изречении поэмы благословения, которые произносил каждый высокорожденный по прохождении ритуала очищения. В присутствии всех близких единокровных родственников, он склонился к образу Януса, и на голову ему легла, вышитое крупными изумрудными камнями облачение жреца. Анаиэль покорно приложил обе руки к сердцу, признаваясь все своих прегрешениях, и самых терзаемых сердце помыслах, грязных и недостойных мыслях, а в завершении признал клятву на жизни.
— Я обещаюсь, что стану всей справедливостью этого мира, — торжественно шептал он, и свет, падающий со стеклянных потолков, медным потоком овевал его голову, нависая ореолом благости. — Я обещаюсь, что стану всем бичом зла этого мира. Не попреку я души и сердца своего, во славу рода великого, одарившей меня жизнью. Не отринуть мне во веки веков добродетели, коей я буду одаривать земных рабов, что воспевают славу небесную. И да примет Царство златых песков и вод лазурных, клятву мою в верности.
В апартаментах, где проводили обряд, стало тихо как в храме во время богослужения, как в мгновение исповеди между женихом и невестой, когда обменявшись признаниями, они испивали чашу холодной воды из рук друг друга.
Два прислужника поднесли серебряные подносы, на одном из которых возвышалась алмазная чернильница, а на другой алмазная кисть со стеклянным пером. И в книге, где расписывались все выходцы из его рода за последнюю тысячу лет, он начертал свое полное имя. Это было равнозначно признанию жизни, и теперь он становился полноправным членом семьи. Если имя человека не было занесено в день шестилетия в книгу имен своего рода, то его признавали безымянным. К таким по большей части и принадлежали кочевники, лишившиеся семьи и памяти о своих корнях, никому ненужные и навеки очерненные. Теперь он мог не подчиняться приказаниям своих учителей и раскрывать любые священные писания, свитки и тексты, нанесенные на древесные таблички, хранящиеся в отдельных драгоценных сундуках, где сохранялись накопленные знания о медицине и древних науках, астрономии и географии, потерянных континентах, их истории и сказаниях за последние несколько сотен лет. И с этого мгновения, когда черная краска сохла на дорогих страницах плотной книги, являлся Первым Господином. Позже лучшие каллиграфы Империи смогут прикоснуться к странице с его именем, чтобы украсить ее красною и золотою красками, вырисовывая удивительные росписи цветов и мелкие орнаментные украшения. Считалось, что чем прекраснее будет произведенные в книге имен символы, тем счастливее и удачливее будет жизнь человека. И к работе относились со всем душевным трепетом, выбирались лучшие из лучших среди мастеров высочайшего искусства. Работы каллиграфов ценились больше произведений достойных пейзажистов и ювелиров, писателей или хранителей священных текстов, что сохраняли историю прошлого и настоящего. И пока его страница оставалась чистой и нетронутой, лишь его имя блестело чернилами посередине огромного холста.