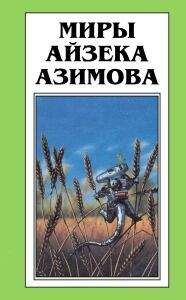Евгения Кострова - Лазурное море - изумрудная луна (СИ)
Зато он ощущал, как блуждает ее взор по контурам его строгого профиля, как останавливается льдинисто-изумрудный взгляд на длинных каштановых волосах, и как напрягается тело, а с краснеющих губ сходит прерывистый вздох. Тяжесть, окутавшая все ее внутренности и волнение, осязаемое в воздухе, проникало ему под кожу, впитываясь в кровь. Но Анаиэль продолжал наблюдать за пересечением небесных светил в безмолвии, хоть язык и обжигало неутолимое желание любопытства. Он хотел знать многое, но сдерживал себя, уговаривал подождать и дать время человеку раскрыться самому. Но она не произнесла ни слова, после того мгновения, от которого застыло сердце, захваченное в кристальные тиски ястребиных когтей, впившихся раскаленным ядом в предсердие, рассекая ему грудь острыми кинжалами. Его руки все еще лежали на ее лбу, большими пальцами растирая ноющие виски, мягко проводя прямые линии вдоль шелковистых бровей, стирая горячую влагу, проступающую на чистейшей коже. Когда же дыхание ее стало ровным, как морская волна, он сам укрылся в безмятежности сна, и впервые за долгое время наслаждался ночью и охватившим беспокойное сознание покоем. Он глубоко вздыхал прохладный воздух, и клубы серебристой бисени вырывались горячим потоком с его губ каллиграфическими ветвями сплетаясь в ветре. В ушах его звучало биение ее сердца, дыхание возрожденной жизни. Мужчина опустил кончики пальцев вниз, едва дотрагиваясь до опушенных ресниц, нежно проскальзывая по острым скулам. Его длинные волосы накрыли ее спящее лицо, очернив ниспадающими лентами, скрывая занавесом от пугающего мира темноты, когда он склонился над ней, очерчивая мизинцем алеющие перстни полных, чувственных губ. И так близко были их лица друг от друга, что он вкушал ее дыхание, жадно впитывая сквозь стиснутые зубы, давая сладкой вязи проникнуть в свои легкие. Он представил себя каллиграфом, что раскрывает пергамент и набирает в стеклянную кисть густых чернил, он чувствовал себя гончаром, в руках которого мягкий полупрозрачный фарфор, когда тыльной стороной рук он прошелся вдоль длинной шеи, в месте, где бился пульс, где трепетала темнеющая голубая жилка, сжигающая его изнутри. И нежность кожи молодой женщины была столь притягательна, что запястья охватила дрожь, его накрыла одержимость больного и безумного, словно в одно мгновение рухнули все выстроенные преграды. Он впился ногтями в кожу, выпуская красную кровь, освобождая боль, что сможет растаять в предрассветных туманах восхода, опадая аметистовыми слезами на орошенную слезами и углем землю. Он посмотрел на разрезанную ладонь, глубокий и омерзительный шрам, что оставил обсидиановый клинок его прислужника, который он вырвал из ножен, когда проклятые речи были прошептаны, вонзившиеся в самое сердце. Анаиэль помнил день, когда священники раскрыли перед ним свитки из белого нефрита, расстилая на опаловых столах карту города, написанной на шелковой ткани, завязывали тесьмой глаза, смазывая веки ладаном и омывая тело сожженными благовониями из лаванды и адониса. Он до сих пор мог ощутить, как на талии подпоясывали золотой пояс с бриллиантовыми камениями, как сглаживали белоснежную накидку, расписанную вручную на атласном материале. Прислужники осторожно вели его к столу, поставив перед ним стул из темной древесины, возложив черный бархатный настил, на который он опустил колени. Руки одного его слуги были влажными и дрожащими, ладони же другого сухие и крепкие, а на запястье колыхался браслет с четками из темного оникса. Вдалеке он слышал крылатый полет стаи десяти тысяч белоснежных голубей, чьи перья еще долго кружил воздух в высоком небе, и в воздухе еще витал аромат толченых специй для пиршества, объявленного по всему Сиону. Вся столица готовилась к торжеству, и пять знатных семейств Османской Империи собрались под хрустальными сводами белых храмов, оставляя молебны богам, зачитывая суры на алмазных скрижалях и испивая святой воды в белоснежно-прозрачных гротах из хризолита.
Когда его пальцы замерли на невидимой для него карте, он смог расслышать, как тяжело вздохнули люди, окружившие со всех сторон его невысокую фигуру, и как угнетающая тишина, балдахином скорби окутала всю праздничную атмосферу, скомкав, как лист белой бумаги с кровью зараженного холерой. Дрожащими пальцами его послушник храма снял повязку с голубых глаз, и тогда мальчик отнял руку от карты, мысленно вырисовывая каждую букву распахнувшихся образов замшелых и покошенных от сырости построек Квартала милосердия. Один из старейших и самых грязных кварталов города, где жили люди из самых низших слоев населения, куда съезжались торговцы, продавая черную кровь полуночных отпрысков и серебряный наркотик. Средь загрязненных мансард, где всегда был слышен высокий и пронзительный плач тех, кто умирал в приходских домах, доживая последние дни от пагубных лихорадок или напущенной недругом скверны, витал запах гнойников и язв, свернутой крови и зловоний нечистот, рвоты. Анаиэль не изменился в лице, и не дрогнуло его сердце, когда он смог осознать причину всеобщей угрюмости. Плохой знак для выходца из достопочтимой семьи, на протяжении многих столетий прислуживающих при Дворе Императора. Его прадед надевал традиционный свадебный наряд из алого шелка, длинной пурпурной пеленой, сходящейся на половицах, расшитых золотыми нитями и яшмой на плечи покойной Императрицы. Его отец занимал важный пост в Совете, а старший брат, которому в прошлом месяце минуло семнадцать весен, стал одним из лучших в воинском гарнизоне, и многие прочили ему место одного из командующих гарнизонов по достижении двадцати лет. Фамилию де Иссои всегда чтили, уважали и боялись, и как только новость о том, что младший сын семьи в День Толкования пройдется вдоль нечестивых улиц, а шелковые белесые полотнища, по которым будут ступать его оголенные стопы, потемнеют от грязи, скверны и слез, впитавшихся в каменные мостовые, разнесется по всему Сиону, как пожар, пожирающий соломенные крыши. Он не сможет пройтись вдоль аллеи раскосых померанцевых деревьев с распустившимися белыми полными бутонами и вдыхать сладкий аромат кораллово-розовых лепестков олеандра, не услышит звон падающих на выложенные чистейшими мраморными плитами, отражающими голубое небо, золотых пиастров, обжигающих блеском глаза. Он не увидит великолепия высоких ордерных аркад, окаймленных витражами из лунного камня, где ярко-медовый янтарь полного лунного диска вливался в заводи синеющих озер, как и оплетающие постройки и колонны лозы красных роз. Таких же красных и огненных, как малиновый закат перед дождливым утром последующего дня.
Анаиэль поднял глаза на стоявшего рядом с отцом старшего брата. Внешне оба брата отличались друг от друга, и все же в лицах обоих проглядывались единые черты. Смоль волос старшего была темнее сумрачной ночи, глаза же были оттенка расплавленного золота, кожа сияла темной медью. К своему совершеннолетию Илон де Иссои достиг небывалой рослости в сравнении с его ровесниками, он был высок и подтянут, а через плотный материал черной туники проступали рельефные мускулы. Он был сдержан и молчалив, и больше походил серьезностью на отца, нежели на их покойную мать, скончавшуюся после тяжелых родов второго сына по речам благородных мастеров, занимающихся воспитанием и обучением наукам и молвой в людской среди прислуги. У него была удивительная прямая осанка, и каждый контур точеного красивого лица отливал благодушием и мужеством. Илон предпочитал точные науки и тактику, и многие отмечали высокую развитость способностей в высокой математике, быстрому усвоению инородных наречий. Старший брат прекрасно изъяснялся на нескольких славянских наречиях, тогда как читать предпочитал древнекитайские тексты, а его общий язык звучал богаче и ярче родного диалекта. Он всегда почитал богов, отдавая должное коренным обычаям каждого племени и древнего рода, и ни разу его честь не была запятнана непристойностью порока или безнравственного поведения, к которому склонялись многие из дородных чад высоких чиновников. Даже в самые тяжелые дни, которые переживала Империя, сражаясь за граничащие земли с Британией, старший брат оставался хладнокровен и рассудителен, принимая ответственные решения и помогая стоящим по старшинству в звании, находясь в самых опасных регионах среди простых солдат. И Анаиэль во многом мечтал походить на родного брата. Его увлекало восхищение и гордость, испытываемые Илоном за Родину, его искреннее упорство в совершенствовании и приобретении новых знаний, непосильный и нескончаемый труд. Он никогда не предпринимал случайных и поспешных решений, и в каждое действие молодой дворянин вкладывал всего себя. Им гордился весь Сион, и в день толкования судьбы люди выходили с золотыми чашами, полные до краев сладкой мирабели, красного винограда, сочащегося холодным соком и темного крупного изюма, инжира и фиников, открывали бочонки старого игристого белого вина, и раздавали детям в серебряных пиалах варенья из айвы.