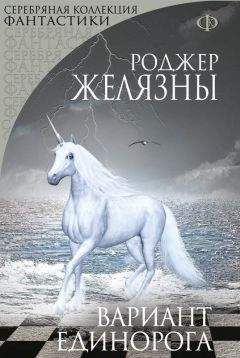Роджер Желязны - Вариант единорога
Он закрыл мне лицо, взмахнув занавесом, точно плащом матадора.
– Начнем?
– Пожалуй.
Она вернулась к креслу.
Через некоторое время он попытался прочесть то, что светилось в ее глазах.
– Возьми ее. Она этого хочет.
Он положил кисть, пристально посмотрел на женщину, на свою работу, – и снова на женщину.
Потом опять взялся за кисть.
– Решайся. Что ты теряешь? Подумай о том, что приобретешь. Это серебро на ее груди может обратиться в бриллианты. Думай о ее груди, думай о бриллиантах.
Он положил кисть.
– Что случилось?
– Какая-то внезапная усталость. Сигарета – и я готов продолжить.
Она поднялась с кресла и закинула руки за голову.
– Хотите, я подогрею кофе?
Он посмотрел туда, куда она указывала взглядом, – на стоящий в углу поднос с остывшим напитком.
– Нет, благодарю. Сигарету?
– Спасибо. Его рука дрожала.
Она подумает, что это от усталости.
– У вас дрожит рука.
– Наверное, от усталости.
Она присела на кровать, стоящую здесь же, в студии. Он медленно опустился рядом и прилег.
– Здесь жарко.
– Да.
Он взял ее за руку:
– Вы тоже дрожите.
– Нервы. Delirium Tremens. Кто его знает?
Он поднес ее руку к губам:
– Я люблю вас.
Ее глаза испуганно расширились, губы дрогнули, рот приоткрылся.
– …И у вас красивые зубы. Он обнял ее.
– О, пожалуйста!
Он крепко поцеловал ее.
– Не надо. Вы же не хотите сказать…
– Хочу, – произнес он. – Хочу.
– Вы очаровательны, – вздохнула она, – как и ваше искусство. Я всегда это чувствовала. Но…
Он поцеловал ее снова и увлек за собой.
– Миньон…
Питер Хелзи глянул с балкона на раскинувшийся внизу аккуратный парк, разлинованный тропинками, проложенными еще в старые добрые времена Свифта – парк с его живописным ландшафтом и своеобразным очарованием ХУЩ века, – и перевел взор вниз – на поручни ограждения, скалы и длинный, крутой спуск к заливу.
– Как хорошо, – сказал он и вернулся в комнату.
– Хорошо, – повторил я.
Я висел на стене комнаты. Он остановился передо мной.
– Чему ты ухмыляешься, старый ублюдок?
– Ничему.
Справа, из ванной, вышла Бланш, вытирая закатно-розовый нимб все еще влажных волос.
– Ты что-то сказал, милый?
– Да. Но я говорил не с тобой.
Она указала на меня большим пальцем:
– С ним?
– Вот именно. Он – мое единственное удачное создание, и мы неплохо с ним ладим.
Она содрогнулась:
– Чем-то он похож на тебя – только, пожалуй, выглядит позлее.
Он повернулся к ней:
– Ты в самом деле так считаешь?
– Угу. Особенно – глаза.
– Уйди, – сказал он.
– В чем дело, милый?
– Ни в чем. – Он сдержался. – Но скоро должна вернуться моя жена.
– Хорошо, папочка. Когда я снова тебя увижу?
– Я позвоню тебе.
– О'кей.
Зашуршали черные юбки – и она исчезла.
Питер не провожал ее до двери. Это было не в ее духе. Он еще немного поизучал меня, затем пересек комнату, остановился перед зеркалом и пристально всмотрелся в свое
отражение.
– Гм, – возвестил он. – Какое-то сходство все же есть – этакая подсознательная тяга к ехидству.
– Конечно, – сказал я.
Он засунул руки в карманы шелкового халата, снова вышел на балкон и взглянул на океан.
– Mater Oceana, – произнес он. – Я счастлив и несчастлив. Унеси мою тоску.
– А в чем дело?
Он не ответил мне, но я знал.
За дверью послышались шаги Миньон. Дверь распахнулась.
Я знал. Он вернулся в комнату и посмотрел на женщину.
– Боже, да ты прекрасно выглядишь. Зачем тебе еще и косметический кабинет – эти лишние хлопоты?
– Чтобы всегда оставаться такой для тебя, милый. Я бы не хотела, чтобы ты охладел ко мне через пару месяцев.
– Ну, это вряд ли. Он обнял ее.
«Я ненавижу тебя, богатая сука! Ты думаешь, что можешь распоряжаться моей жизнью, потому что оплачиваешь мои счета. Но ты не сама нахапала все это. Это все твой старик. Ну давай же, давай, спроси меня, работал ли я сегодня».
Она нехотя высвободилась из его объятий:
– Ты писал что-нибудь сегодня, дорогой?
«Нет. Я провел время в спальне с одной блондинкой».
– Нет, болела голова.
– О, прости меня! А как сейчас, лучше?
– Нет, все еще побаливает. «Ах ты…»
– Пойдем куда-нибудь вечером?
– Куда же?
– Помнишь тот французский ресторан, мимо которого мы вчера проезжали? Как, бишь, его…
– «Ле-Буа».
– Я подумала, что ты, может быть, захочешь посидеть там немного сегодня вечером. Во всех остальных мы уже побывали.
– Нет. Не сегодня.
– Где же тогда мы поужинаем?
– Может, прямо здесь?
Она приняла озабоченный вид:
– Тогда мне придется позвонить вниз и сделать распоряжения.
«Держу пари, что ты не умеешь готовить. Мне ни разу не подвернулся случай выяснить это».
– Это было бы замечательно.
– Ты уверен, что не хочешь никуда пойти сегодня вечером?
– Да. Уверен.
Ее лицо прояснилось:
– Стол накроют в саду, а еду привезут на тележках – как для особых гостей.
– К чему все эти хлопоты?
– Мама говорила мне, что у них с отцом все было именно так, когда они проводили здесь медовый месяц. Вот я и хотела предложить тебе то же самое.
– Почему бы и нет? – Он пожал плечами.
Миньон посмотрела на часы. Потом подняла руку, поколебалась и постучала в дверь спальни:
– Ты еще не одет?
– Сейчас-сейчас.
«Почему бы тебе не сдохнуть и не оставить меня в покое? Может быть, тогда я смог бы снова творить. Ты не способна по-настоящему оценить мое искусство – как, впрочем, искусство вообще! Ты ничего не способна оценить. Дешевая, липовая эстетка! Тебе не знаком труд ради цели. Умри же! Тогда я смогу, наконец, собраться… да перестань же мешать мне!»
– Почему бы не сегодня вечером? – спросил я.
– Не знаю… – Он задумался.
– Для всех вы счастливая медовая пара. Ни у кого не возникнет подозрений. Продержи ее там допоздна. Накачай как следует шампанским. Танцуй с ней. Когда официанты притушат свет и уйдут, когда останетесь только вы двое, музыка, шампанское и темнота, когда она начнет слишком много смеяться, когда у нее начнут подгибаться ноги,- я закончил перечислять, – вот тогда и подведи ее к перилам.
В дверь снова постучали.
– Ты готов?
– Иду, дорогая.
«Боже! Сколько же она может пить? Да я раньше нее упаду под стол!»
– Еще шампанского, дорогая?
– Чуть-чуть.
Он наполнил бокал до краев:
– Осталось немного. Мы можем прикончить и эту бутылку.
– Ты что-то мало пьешь сегодня, – заметила она.
– Это не моя стихия.
Повсюду горели свечи. Непроницаемый покров темноты незаметно сгустился вокруг, и теперь в нем лишь угадывались некие смутные очертания и пятна. За дрожащим ореолом света лежала ночь, глубокая, чернильно-темная. Из невидимого динамика, кружась, летели вальсы Штрауса – величаво, приглушенно, sotto voce, как бы паря над столом. Ароматы невидимых цветов обострились, перед тем как исчезнуть совсем в надвинувшейся прохладе ночи.