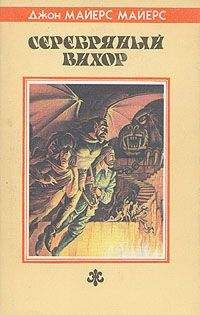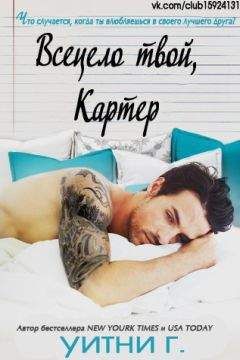Дмитрий Ахметшин - Туда, где седой монгол
Мясом пахнет хорошим, значит, шаманы забили не собаку или быка, или коня, мясо которых годится в пищу только после того, как с него слижет соки солнце — зарезали одну овцу, и кого-то из своих подопечных она сегодня не досчитается.
Что же, так нужно. С малых лет Керме знала, что всё когда-нибудь переместится в небесные степи, будь то овцы, или юрты, или даже люди.
Шаманов она боялась и старалась избегать. Это было довольно легко: они шествовали важно и долго, похожи на диких яков в своём медленном величии и в том, как колыхалась вокруг них их шерсть. Волосы у них росли гуще, чем у обычных людей, и заплетались вместе с разными тряпочками, с лоскутами войлока, с конским волосом и бычьими жилами в тяжёлые шнуры, которые доставали до земли и даже волочились по ней. Они так шуршали в траве, что создавалось впечатление, будто за шаманом следует целое стадо мелких зверюшек. Травы склонялись за его шагами в глубоком поклоне.
На шее звякали друг о друга разные железки, ножи без ручек, кольца, продетые друг в друга. С сухим звуком стукались полые кости. Дети шептались, что шаман перед каждой зимой вытаскивает по косточке из своего тела, выпивает костный мозг и вешает на шею или на уши, а бывает, что цепляет на нос. Всё это богатство передавалось от шамана к шаману, и каждый служитель Тенгри преумножал его.
Каждый шаман носил в руках ручной гром. Делать его женщинам не доверяли: слишком грубы у них руки, чтобы выделать нужной толщины кожу и согнуть для каркаса вишнёвые прутья, не повредив их. Шаманы, которые не занимались ничем, кроме служения, сами делали себе бубны.
Их шатёр всё время как бурлящий котёл, травы и коренья, ягоды и грибы превращаются там в воздух и устремляются прямо на небо, боги и духи пляшут вокруг этого видимого для других и ощутимого для Керме, дымного столба, и радость их звучит одурелыми криками птиц или ломким хрустом снега в зимнее время.
Во время заката оттуда доносился мерный грохот бубнов, и всё живое замирает и прячется по норкам, думая, что это катится гроза.
Солнечные лучи, говорили, просвечивают таких людей насквозь, и видно, что, кроме халата, нет в них ничего плотного, и даже кожа больше похожа на воду. А в лунные ночи от них остаются только тени, которые пляшут вокруг потухающих углей до самого утра.
— Шаманы — особенные люди, — говорила бабка. — Без них с нашим кочевьем не будет ни мяса, ни молока и солнце всегда будет разить наших охотников в глаз. А стужа вморозит нас в землю, так, что даже лисицы не смогут разгрызть промёрзлые кости.
Перед каждой юртой было особенное место, где жил Тенгри. Лицом, вылепленным из войлока, он наблюдал за тем, правильно ли пасутся стада, вдоволь ли они едят и хорошее ли молоко дают кобылицы. Смотрел за людьми: чистят ли коней и слезливо ли поют на застольях песни. Летом, когда не было сильного солнца, женщины занимались шитьём перед входом в шатёр, и под грозным взором работа спорилась скорее. Шаманы окуривали его своим дымом, принося его в специальных сосудах, или, напротив, внося идола меж двух костров в шатёр бога. Керме вместе с остальными женщинами доводилось участвовать в их изготовлении, и в такие минуты, нанизывая войлок и перемежая его с высушенными травами и шёлковыми тряпицами, она думала, что вот сейчас своими руками создаёт лицо великого и грозного Тенгри.
«Интересно, что возникло сначала, — проносилось в её голове, — солнечное лицо или лицо из войлока?»
— Тенгри — пастух пастухов, — важно говорили шаманы, и Керме чувствовала себя под перекрестьем пристальных взглядов, даже не видя лиц. Словно маленькая овечка под взглядом пастыря.
Шаманы забивали под каждым новым идолом по одной овце, вскрывая длинным ножом, похожим по форме на звериный коготь — хотя Керме не знала о зверях или птицах с такими большими когтями — вену на шее животного и пачкая руки в крови, и выдавливая весь сок к ногам статуи. Это единственная, пожалуй, жидкость, которой позволяли в степи беспрепятственно уйти в землю, ведь ей питается верховный бог. Сердцем он лакомился тоже, его вырезали из груди и на ночь ставили на нарядном блюде перед идолом, чтобы он смог утолить свой голод. Керме всегда поражало, как мало он ест: то, что вносили утром в шатёр, чтобы разделить между всеми его жильцами, было не намного меньше того, что оставляли вечером.
Шкуру и неповреждённые кости предавали огню, а пепел вместе с золой оставляли на ночь, чтобы им могли полакомиться робкие духи убитых животных.
После этого идол начинал видеть глазами бога, и Керме часто представляла у него вместо глаз дыры прямиком в небо.
Овечьи стада уменьшались, потом тучнели, потому что из степи пригоняли других овец, и вновь уменьшались в дни гуляний или когда вдруг наступала ранняя морозная осень и требовалось мясо, чтобы подогреть кровь.
Утром возле шатра воина по имени Усул ставили нового идола, и все его обитатели: сам Усул, два его малолетних сына и четыре жены — проходили очищение огнём. Перед новым ликом Бога требовалось предстать чистыми. Дети орали с самого утра, а Усул говорил с ухмылкой, что подпалил себе усы и теперь, стало быть, помолодел.
Поэтому Керме ждала сегодня шаманов. Овцы, не ведая о возможной участи, бродили вокруг, и она чувствовала касание их ушей или в лицо ей прыгал удирающий от овечьих зубов кузнечик. Водя носом почти у самой земли, она собирала бруснику. Наступило шаткое время, когда ягоды только-только поспели, но не оказались ещё съедены грызунами, спешащими сделать запасы на зиму, муравьями или скотом, чей зев переваривал, помимо травы, без разбору кузнечиков, семена, корешки, ягоды и даже землю. А бывало, и нерасторопных хомяков…
От палящего солнца брусника пряталась в ладошках растений и степных цветов. Ещё десяток дней, и престарелый папа-солнце, хан, претерпевающий перед зимой упадок сил, заприметит, что детишки прячут во вспотевших росой ладошках сладости, и отберёт, раздвинувчуткими пальцами траву, высушит оставшиеся ягоды дотла.
Со стороны, где стояли шатры, возникло долгожданное звяканье шаманских украшений, хлопанье рукавов халата, долгие важные шаги. Бубен на поясе отдавался долгим гудением при каждом шаге. Овцы перестали жевать, даже жужжание насекомых многозначительно стихло.
— Ну, кто сегодня послужит великому богу, мои маленькие облачка? А ты, слепой тушкан? Ты не хочешь?
Собаки, что помогают, пасти стадо, не могут иметь имени, и собаки Тенгри — не исключение. Поэтому этого шамана звали Шаман. Так же, как и любого другого, но если бы Керме произнесла это имя вслух, в имя этого человека она бы вложила чуть больше чувств.
— Могу, — шепчет Керме, — Но зачем Тенгри в личном стаде слепая овца?