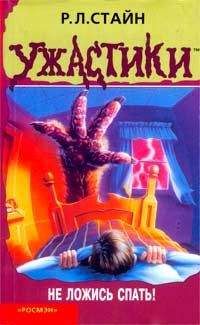Ника Ракитина - ГОНИТВА
Под киотом, за угол которого была заткнута ветка омелы, стоял стол, покрытый льняной с мережкой скатертью, рыжеватой от старости, но накрахмаленной и чистой; лавки и сундук. Над входной дверью, отражаясь в мутноватом, наклоненном зеркале, висела полка с глиняной посудой, под ней был еще один стол для хозяйственных нужд, отскобленный добела, со следами ножа на столешнице. На жерди над печью сушилась одежда, в уголке приткнулись валенки. Между широко расставленными окошками напротив двери под зеркалом занимала простенок под домотканым ковром монументальная парадная кровать с горкой уменьшающихся кверху подушек и вышитым покрывалом с кружевным подзором. На этом ложе, обязательном для хаты, никогда не спали, разве заезжие паны. Кровать такая являлась скорее не предметом меблировки, а символом благосостояния – "и мы не хуже людей". Хозяева же летом ночевали на лавке или вовсе на сеновале, а зимой забирались на хорошо протопленную печь, потому что в морозы к утру даже хорошо проконопаченная и закрытая изба выстывает до мертвого холода. Отличалось жилье ксендза Горбушки от крестьянского книгами. Книги теснились везде: занимали лавки, угол стола, упомянутый сундук, самодельный книжный шкаф за печью, саму печь, выпирая из-за сатиновой занавески обитыми медью и железом уголками. Было несколько старинных инкунабул со следами цепей, которыми драгоценные тома приковывали к сундуку-книгохранилищу, с вычурными замочными скважинами на ремешках, обхвативших сгиб. Но грудой валялись и дешевые газетные издания, и даже романтическое чтиво для барышень и лютецкий модный журнал, годовое собрание, забранный в кожу томище… Айзенвальд выволок из развала печально знакомую "Хозяйку Лейтавскую": "Роза в сиропе. Бутоны розы, которые хорошо раскрылись, или цветы, что едва расцвели, очистить, оборвать всяческую желтизну…" Генерал хмыкнул. Весьма актуально…
– Сейчас… картошка будет…
Казимир Франциск на недолгое время исчез и возвратился с миской соленых огурцов и капусты, шматом сала, завернутым в пергаментную бумагу, и пропыленной темной бутылью.
– Располагайтесь, ужинайте.
Генрих удивленно приподнял брови. Ксендз пожал плечами на невысказанный вопрос:
– Время для повечерия. И так пренебрег вчера службой.
Айзенвальд припомнил нетронутый снег, заваливший костельное крыльцо, темные глухие окна… Да здесь и сторожа-то нет…
– Но…
– Полагаете, если нет верников? – серые глаза Казимира помрачнели. – Никто сюда не пойдет, после дел этих, и когда страхи, и волки… Но Он! Он есть, и ничто меня не извинит, если…
Он запнулся, словно от сильного душевного волнения. Айзенвальд понял, что имеет дело не с фанатиком, но с человеком, который превыше всего ставит долг – превыше эгоизма и умения не то чтобы устраиваться, а рассудительно подходить к ситуации. Генерал ощутил невольное уважение. Выбираться сейчас на мороз, тянуться по ночи в промозглый, еще более холодный, чем улица, храм, служить перед глядящими со стен суровыми святыми и пустыми рядами дубовых скамей… В выбитые стекла сквозит, то и дело задувает свечки, и есть всего лишь тонкая ниточка веры между замерзающим священником и Тем, в кого он верит. Может быть, отец Казимир прав. Генрих запахнул шубу, которую, было, собирался снять:
– Я с вами?
Ни лице Казимира нарисовалось детское удивление, уголки губ дрогнули, глаза увлажнились… Экстаз и счастье – вот что излучало это неправильное, но такое милое сейчас лицо. Айзенвальд на мгновение устыдился. Ведь то, что он делал сейчас, делал не для Бога – для этого вот длинного нелепого человека в снежном одиночестве заброшенной, может, проклятой деревеньки.
– Сейчас… сейчас… картошку отодвину…
Казимир гремел котелками, ронял ухват, обжегся и дул на длинные очень красивые пальцы. Надел шерстяную рясу, схватил требник и, споткнувшись о порог, вывалился наружу.
Огромные, с кулак, звезды застыли над заснеженным, бескрайним пространством, ограниченным щеткой елового леса на окоеме, и посреди этой искрящейся пустоты вздымался к небу храм, массивный, как гора. И, как гора же, никак не хотел приблизиться, хотя, казалось, от ксендзова дома располагался в двух шагах.
Снег похрустывал под сапогами, мороз забирался под одежду, студил лицо. Но Айзенвальд, запрокинув голову, затаив дыхание, все равно залюбовался неизмеримостью космоса у себя над головой, где каждая звезда – может быть, чей-то дом.
Скрип массивных костельных врат заставил его очнуться. Он взбежал на заснеженное крыльцо и погрузился в холод огромного неотапливаемого здания. Пожалуй, внутри было холодней, чем в погребе. И почти так же темно. Свет звезд, попадая в расколотые окна, заставлял смутно светиться барельефы ангелов на стенах, взблескивал на мозаичном полу, полосках снега, скопившихся вдоль стен… Казимир Франциск, двигаясь уверенно, прошел к алтарю, затеплил свечки в стеклянных чашках по обе стороны от него. Тяжелые нервюры свода терялись в темноте, об их высоте можно было лишь догадываться по колокольности отражаемых шагов. Алтарь вздымался средневековым резным замком, и раскрашенные статуи в альковах, казалось, оживали в трепещущем слабом свете. Рядами выстроились вдоль нефа черные скамьи, балдахин качал выцветшими кистями над резной деревянной кафедрой, врезанной в стену, с ведущей к ней деревянной лесенкой. Вздыхал трубами орган.
Священник занял привычное место и, казалось, отрешился и от повседневных забот, и от холода. Сделалось возвышенным его лицо. И разбуженное эхо подхватило "призывный" псалом:
Берегом шел Иисус,
Звал за собой в дорогу,
Чтобы люди услышали
слов божественных правду.
О, Иисус, кличешь меня с собою,
Сегодня негромко имя мое произнес…
Я оставлю лодку на берегу
И с Тобою начну новый лов.
Золота нет, серебра нет у меня,
Но руки к труду готовы,
И есть сердце, что жаждет правды…
Псалом, похоже, был очень древним. Его мог петь еще рыбак Андрей, который бросил сети, чтобы пойти за Христом. Казимир Франциск пел вдохновенно. У ксендза оказался глубокий баритон, а у заброшенного здания великолепная акустика, и "призыв" гремел, точно подхваченный многими голосами:
Ты требуешь рук моих,
Пота и чистого сердца,
Неколебимой веры, моей отваги…[27]
Отставной генерал дослушал стоя, жалея, что у песнопения всего один свидетель – не считая Бога.
Холод становился все пронзительнее. Подкрепленный сыростью старого здания, в какой-то момент он сделался вовсе нестерпим, и Айзенвальд, не потревожив впавшего в транс проповедника, отправился бродить по собору от статуи к статуе и иконы к иконе. Разглядывал полустертую живопись, памятные доски на стенах ("…основателем костела является вельможный пан…", "статуя святого Бартоломея подарена…"), свешивающиеся с кронштейнов линялые хоругви. Капельки воды, сбегавшие с выщербленного края мраморной чаши, заледенели сосульками до самого пола. Айзенвальд поскользнулся, ухватился за край чаши и загляделся, привлеченный мозаиками пола, составлявшими как бы… (он всмотрелся)… Да, составлявшими карту! Словно для того, чтобы развеять сомнения, во флажки около географических объектов были вписаны названия. Айзенвальд, замерший на остроконечных воротцах с подписью "Вильно", двинулся вдоль припорошенной снежком синей ленточки Вилии… Карта была подробной и очень точной. Замечательно яркие краски сохранились даже теперь, под многолетними катышами пыли, с которой у ксендза, должно быть, не хватало сил бороться. А щербинки и трещинки только прибавляли карте достоверности. Зрелище такое не встречалось генералу никогда прежде. Он вовсе забыл о проповеди и о холоде. Низко склоняясь, вглядывался в рисунок. Неверное, почти никакое, освещение заставляло напрягать глаза и в то же время сообщало узору жизнь. Генрих задумался, не сыщется ли здесь места, где похоронена Северина. К юго-востоку от Вильни, вот по этой дороге… Здесь?