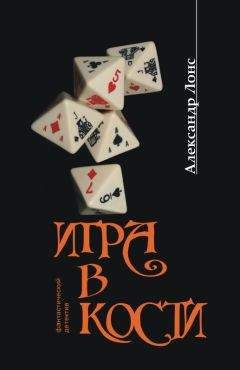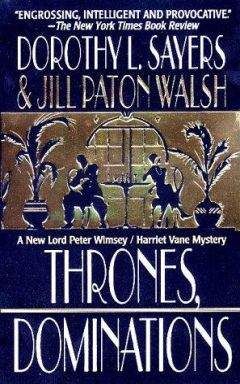Татьяна Зубачева - Мир Гаора
— Куда? — потрясённо переспросил Гаор.
— Ну, пороть там, — вступил Чалый, — у нас в посёлке, я помню, был такой. С кубиком.
— Лютовал? — заинтересовался Малец.
— Поначалу шибко, а потом ему укорот дали, — Чалый хохотнул. — Аккуратненько. Ну и не дурак, сообразил. Мочилы, они умные, и жить любят.
— А ты не любишь? — тут же поддели Чалого под общий смех.
Усмехнулся и Гаор, ответив вместо Чалого.
— Жить все любят.
— Ага.
— Точненько.
— Жизнь тошна, а милее смерти.
Гаор с невольным удивлением посмотрел на сказавшего. Такого он не слышал, но до чего ж здорово сказано!
— Ты чо, паря, — удивлённо ответил на его взгляд тот самый лохматый, что вчера рассказывал о Таргуйском отстойнике, — не слышал разве?
— Не слышал, — ответил Гаор и улыбнулся, — а здорово сказано.
— Ну, Бурнаш могёт, — засмеялись вокруг.
— Давай, Бурнаш, поври чего.
— Поскладнее, а?
Бурнаш горделиво взъерошил обеими руками бороду, почесался, взлохматив волосы.
— А чо ж?
Гаор со всеми приготовился слушать, но тут раздался стук дубинки по решёткам.
— Камеры к уборке!
Слон подзатыльниками назначил уборщиков. Но подзатыльники, как сразу заметил Гаор, были не всерьёз, удар только обозначался. Через окно выдали ведро с водой и тряпки. Дело для всех было явно привычное. Потеснившись, остальные сели на нарах, подобрав ноги и молча — надзиратель стоял у решётки, наблюдая за уборкой — переждали, пока вымоют пол. Гаор потихоньку, стараясь не привлекать внимания, растирал себе ноги. Но Зима заметил.
— Ты чегой-то? — спросил он, когда уборка закончилась, и надзиратель ушёл. — С утра вон и сейчас.
— Застудил я их, — нехотя ответил Гаор. — Болят когда замёрзнут, — и вздохнул. — Не привык я босиком.
— Тебе по земле весенней походить надо, — сразу вмешался Чеграш.
— Ага, — кивнул Чалый, — и по росе заревой.
— Точно, — согласился Гиря. — Заревая роса болесть вытягивает.
— Как это? — не понял Гаор.
— Ну, Мать-Земля, она мать, боль детскую на себя забирает, мы ж дети ей, а через росу ей легче.
Гаор кивнул и встал с нар. Ни на кого не глядя, шлёпая по сырому ещё полу, он прошёл в угол к решётке и встал спиной ко всем, невидяще глядя на серую стену…Мать детскую боль на себя забирает… Он ведь слышал это, ещё там, тогда, до всего, до отца, будь он проклят. Тёплые руки на его голове, быстрый ласковый шёпот.
— Спи, маленький, утром здоровым будешь, беру боль твою и горести твои, всё на себя беру…
Гаор качнулся вперёд, уткнулся горящим лбом в холодную жёсткую стену.
— Рыжий, — позвали его, — иди, ляг.
Он не оборачиваясь, дёрнул плечом.
— Приведи его, — сказал сзади ставший твёрдым голос Седого.
Его тут же крепко взяли с двух сторон за плечи, и даже руки назад завели. Но он не сопротивлялся. Его отвели к нарам и толчком уложили навзничь.
— Ляг и успокойся, — голос Седого твёрд, сочувствие скрыто, но ощутимо. — Не психуй. Ещё не из-за чего.
Гаор молчал, глядя перед собой, в нависающий над головой настил верхних нар.
— Эй, Рыжий, — спросил Зима, — вспомнил чего? Да?
— Не трогай его, — сказал Седой.
— Пусть очунеется, — согласился ещё кто-то.
Ещё одно новое слово. Но ему сейчас ни до чего. Эту боль тоже надо и возможно перетерпеть. Зацепиться мыслью за что-то другое и забыть. Сержант не разрешал ему вспоминать посёлок и мать, пресекая любые его попытки заговорить об этом ударом по губам.
— Не было этого, понял? Ты только сейчас жить начал. Понял? Не было! Повтори.
— Этого не было, — с трудом шевелит он распухшими от удара губами.
— Кто ты есть?
— Гаор Юрд, бастард Юрденала.
— А раньше как звали?
— Не было раньше, Сержант.
— То-то, теперь правильно.
Ни имени, ни названия, ничего… он послушно забывал. Кому же охота побои получать? И помнил. Какие-то обрывки, несвязные слова, яркие картинки — обрывки фильма без конца и без начала… и голос, тоненький, почти девчоночий, и странная никогда не слыханная им потом песня… в лу-унном сия-аньи сне-ег серебрится-а… вдоль по доро-оге троечка мчится-а… динь-динь-динь… динь… динь-ди-инь… колоко-ольчик звени-ит… этот звон… э-тот зво-он о любви-и говори-ит… и всё, и тёплая тишина сна… он честно забыл и это. Как было приказано. И вспомнил в госпитале, лёжа в бинтах, прикованным капельнице, пел про себя, уходя от разрывающей тело боли. И снова забыл. И вспомнил сейчас…
Гаор шевельнул губами, беззвучно проговаривая слова. Выпустить их наружу, в звук он ещё не мог. И закрыл глаза, провалившись даже не в сон, а в беспамятство.
…Разбудил его стук по решётке и зычный голос Слона.
— По четыре становись!
— Чего? — рывком сел он.
— Жрать будем, — весело ответил ему Чеграш, спрыгивая с верхних нар. — Становись, Рыжий. Потом доспишь.
Гаор встал и занял своё место. Ну-ка, чем кормить будут? Неизменная четвёртка хлеба, но вместо кружки миска с баландой — горячей мутной жидкостью, в которой плавали куски чего-то съедобного. Не мяса, разумеется, но есть можно. Ложек не полагалось. Пили через край, вылавливая густоту пальцами. Гаор сел на нары, накрошил в баланду хлеб, чтобы было погуще, и уже спокойно стал есть.
Многие, как он заметил, дочищали миски, вылизывая, но он ограничился пальцами.
Съеденное не так насытило, как согрело, даже будто зуд отпустил, и ноги больше не болят. Гаор отдал миску Чеграшу как старшему в своей четвёрке и теперь, сидя рядом с Седым, с интересом следил за происходящим в камере, слушая разговоры. Бурнаш на верхних нарах трепался про баб, и над его складным — почти в рифму, отметил про себя Гаор — рассказом дружно и смачно ржали, многие добавляли своё и тоже складно. Он не видел ни рассказчика, ни слушателей, но это не мешало. Мальца обыграли в чёт-нечёт и теперь щёлкали по лбу. Малец жмурился и старался не отворачиваться. Не отворачиваться и не жмуриться от протянутой к лицу руки здесь, видимо, ценилось. Тоже запомним. Лоб заживёт, он со многими поспорит. Играть в чёт-нечёт он начал ещё в посёлке, и в училище играл, и в армии, так что… рука набита. Седой о чём-то сосредоточенно думал, и когда он зачем-то повернулся к нему, Зима ткнул его в бок, дескать, не лезь, не мешай. Седого не просто слушались, а оберегали — понял Гаор. И Седой не только свой, но и… уважаемый, и уважают не из страха, не в физической силе здесь дело. А в чём?
Ответ он получил неожиданно быстро.
К решётке подошёл надзиратель. Все немедленно прекратили разговоры и игры и уставились на него. А он дубинкой указал на Седого. Седой встал и подошёл к решётке. Слон почему-то остался сидеть, как все, молча наблюдая за происходящим. Надзиратель что-то очень тихо сказал Седому. Седой кивнул и, полуобернувшись, указал на Зиму и Чалого. Те немедленно слезли с нар и подошли. Рванулись следом Чеграш и Гиря, но Седой коротким жестом вернул их на место. Надзиратель открыл дверь, выпустил всех троих в коридор, закрыл дверь и увёл.