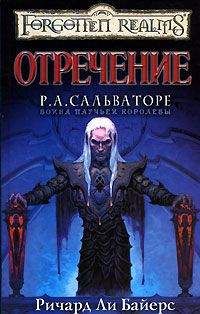Андрей Мартьянов - Отречение от благоразумья
— А... я зацепил какого-то прохожего за плащ, — Сударь, что это за дом?
— Разве ж то дом? — сварливо и с привизгом ответили мне, — Вы-таки посмотрите — благородный господин пришел в гетто и не узнает Староновой синагоги! Юноша, вас проводить к старому Рафаилу Бен-Ассафу? Он делает отличнейшие в этом городе очки!
Ага, понятно... В Англии и Испании (лучше всего исследованных мною государствах) евреев исповедующих веру Моисея и Авраама днем с огнем и следователем инквизиции не сыщешь — повывели. Отлично, делать мне все одно пока нечего, можно поизучать жизнь пражского гетто изнутри и проверить насколько слухи соответствуют действительности. До вечера пока далеко, успею.
Ну я и погулял. Вперед, вперед по Майзеловой улице, к Еврейской ратуше, затем на Широкую — главную улицу гетто — запруженную людьми и меняльными конторами вкупе с вывесками ростовщиков. Будучи несколько осведомлен по роду службы о непривычных добрым католикам иудейских правилах я не особо удивлялся тому, что некоторые лавки начинают закрываться уже днем. Сегодня пятница, преддверие священного дня евреев. В домах готовится еда впрок, засыпаются дополнительные меры овса скотине, так чтобы лошади отжили сутки не нуждаясь в пище, завершаются самые неотложные дела.
Для еврея совершить любую работу в субботний день — великий грех. Нельзя, пардон, перепеленать изгадившего пеленки младенца или подогреть пищу, разведя очаг. Полные сутки полного безделья в самом прямом смысле данного слова. Ну, можно, только не особо утруждаясь, прогулочным шагом, сходить в ближайшую синагогу — их тут штук тридцать, на выбор. А если вдруг приспичило помолиться не вечером в пятницу, а завтра, на тебе уже должна быть соответствующая одежда, ибо нельзя будет даже нацепить непременно положенный всякому мужчине-иудею головной убор: это работа, а значит — грех. Не удивляйтесь, я ничего не преувеличиваю. Позднее, за время жизни в Праге, я раззнакомился со многими евреями и в подробностях вызнал, что такое правила Субботы и Левита, кашрут и другие прелести жизни гетто.
— Пирожки! Ясновельможный пан, купите пирожок! С капустой, яблоками, изюмом, сливой... И совсем дешево! Пирожки!
Рядом с моим ухом несносно орал совсем юный голос. Я повернулся и рассмотрел ярко-рыжего мальчишку лет тринадцати-четырнадцати в обязательной черной кипе, расшитой жакетке и с деревянным лотком где лежали последние пять румяных пирожков. Как видно, остальные успел распродать за день.
— Давай все, — я полез за кошельком. Вдруг захотелось есть — сейчас бы, конечно, попробовать свининки в сметане из трактира «У трех петухов», но не будем забывать, что мы в том районе города, где подобное сочетание продуктов у любого правоверного хасида вызовет тошнотные спазмы и приступ религиозного бешенства. — Сколько?
— Пан заблудился? — участливо поинтересовался мальчишка когда я сгреб оставшиеся пирожки себе в сумку и расплатился. — Пана проводить до Карлова моста или Старомястской площади?
«Хочет получить несколько монет сверх положенного отцом или матерью, — решил я. — Выручку надо будет отдать хозяину пекарни, вознаграждение родителям... Можно дать парню возможность заработать».
— Тебя как зовут?
— Мотл. — ответил парнишка. — Я работаю у рэба Эммануила, пекарня на Сальваторской улице. Здесь рядом. Так пана проводить? Только сначала надо сбегать отдать выручку и лоток. Пан не очень торопится?
— Не очень, — великодушно сказал я. — Идем. Потом я дам тебе пять марок золотом и ты покажешь мне самые красивые места в гетто. Согласен?
Отец Алистер опять будет сердиться и недовольно разглагольствовать о том, что я разбазариваю деньги Святого престола, выделенные на содержание нашей маленькой нунциатуры. Да и плевать! Папа римский богат.
Пока обрадованный гойской щедростью Мотл бегал к хозяину, а я жевал пирожки оказавшиеся неожиданно вкусными и пышными (не расстроил даже факт обнаружения в начинке одного из них хорошо пропеченного дохлого таракана), небо посмурнело тучами, солнце скрылось за тяжелыми серыми облаками и Прага из веселого светлого города мигом превратилась в обитель полумрака и колеблющихся неясных теней. Градчаны, видные почти из любой точки города, вырисовывались на фоне предгрозового неба и посверкивающих вдалеке молний в виде замка сказочного злодея наподобие графа Влада Цепеша из Трансильвании. Меня всегда поражала способность Праги к мгновенному преображению — словно город одним движением менял маску Карнавала на бельма Тощего Поста, и делал это легко, привычно, сам того не замечая.
— А тебя родители не высекут, если придешь домой после заката? — вопросил я Мотла, когда тот наконец появился. — Сегодня пятница.
— Сечь детей в день субботний — есть ни что иное как работа, — улыбнувшись, заявил Мотл и хитро повел бровями морковного цвета. — Папаша и мамаша не станут грешить против закона Моисеева, а к понедельнику все забудут. Что хочет посмотреть пан? Новую синагогу? Кладбище? Дом рабби Бен Бецалеля?
— Все, — восхитился я предложениями мальчишки. — Показывай самое занятное!
Обиталище знаменитого раввина показалось мне малоинтересным. Дом как дом, два этажа, ставни плотно затворены. Но в конце концов, иезуит я или кто? По роду призвания и профессии брат Ордена Иисуса обязан в точности знать места, где приходится нести тяжкое, но благородное бремя службы во славу Матери Церкви. Получивший свои деньги Мотл стоял на страже, пока я залезал на кирпичную ограду, чтобы осмотреть внутренний дворик, и тихонько засвистел, узрев появившихся в конце переулка людей.
Но я успел выяснить достаточно. Свое чудовище — Голема, о котором по городу уже вовсю ходила масса самых невероятных домыслов, почтенный Иегуди содержал не здесь, а где-то в другом месте. Двор был пуст и только бродили по застланной соломой земле меланхоличные куры. Что ж, отсутствие результата уже результат. Любопытно, а где сейчас сам раввин?
«Где, где! — опомнился я, — конечно в синагоге! Пятница...»
— Теперь на кладбище, — скомандовал Мотл, когда я спрыгнул вниз и отряхнулся. — Пан, как я думаю, иностранец? Прежде в Праге не бывал?
— Точно. А что нам делать на кладбище?
Многочисленные некрополи виденные мною во время путешествий по Европе никогда не вызывали рьяного интереса. Ну что за удовольствие люди находят в созерцании могил, когда пышных, а когда совсем незаметных надгробных памятников? Я понимаю, мементо морэ и все такое прочее, но... Все это напоминает болезненно преувеличенное поклонение смерти, когда думать надо о жизни — что нынешней, что Вечной.