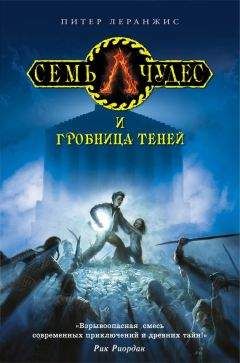Карина Демина - Хельмова дюжина красавиц (СИ)
— О нас…
— О нас, — томно повторил он. И замолчал, ручку Лизанькину пальцами сжимая, глядя этак, с выражением… — Вы и я, моя дорогая Лизавета… Мы созданы друг для друга… предназначены свыше…
Вот! Лизанька всегда так думала, и маменькины карты твердили то же, а папенька все упрямился. Но теперь-то и он поймет…
— Наши судьбы связаны той незримой нитью, которая…
Он говорил так пылко и страстно, что Лизанька заслушалась, а оттого и не заметила, как вдруг оказалась в объятьях князя.
— Что вы…
— Молчите, искусительница!
Молчит.
И вообще она, конечно, мечтала об объятьях, именно таких, страстных и романтичных. Не хватало, правда, пения соловья. И хорошо бы на закате… или вовсе при полной луне, а то ведь полдень почти… зато розы цветут, и розы, пожалуй, луне замена подходящая.
…и первый их поцелуй должен был быть не таким. Нет, Лизанька, конечно, в поцелуях не разбирается, но ей показалось, что нынешнему несколько не хватает нежности.
Торопливый.
Жадный какой-то… и что за манера язык в чужой рот совать? Или это так надобно? Неудобно спрашивать… девице влюбленной надлежит испытывать трепет и чтобы бабочки в животе порхали.
Лизанька прислушалась.
Трепета не было. Бабочек тоже. В животе стараниями панны Клементины образовалась удивительная пустота, которая заставляла с тоской думать вовсе не о поцелуях, но о маменькиных варениках с вишней.
Они диво до чего хороши получались, а вишня, небось, как раз и поспела, красная, сочная.
— Ах, моя дорогая, — Грель все же разжал объятья, и Лизанька с преогромным облегчением опустилась на лавку, подумала, что, возможно, и обморок следовало бы изобразить, но после от сей идеи отказалась: вдруг подхватить не успеет? А трава не особо чистая… да и возвращаться пора, панна Клементина что-то там о снимках говорила… — Простите меня! Ваша красота заставила меня потерять голову!
Лизанька с готовностью простила.
В конце концов, так даже лучше: глядишь, еще через пару поцелуев она привыкнет и к усикам, и к языку…
— Терять голову, — раздалось из кустов, — весьма неразумно. Как шляпу носить станете?
Хрустели ветки, дрожали листья, облетали на дорожку цветы. Панночка Белопольска, кое-как продравшись сквозь барбарис, сбила с плеча былинку.
— Вот у нас в городе, — она поправила растрепанный бант и паутину, что приклеилась к подолу платья, смела. — Девиц по кустам зажимать не принято.
— Мне кажется, — с достоинством ответил Грель, окидывая акторку насмешливым взглядом, — вы лезете не в свое дело.
— Я? Да я не лезу, я так, мимо проходила, а тут вы сидите…
А ведь донесет.
Видела все. И то, как князь Лизаньку обнимал, и то, как целовал. И ладно бы просто видела, но нет, влезла… и папеньке отпишется…
…тот на князя осерчает.
Лизанькина идеальная мечта задрожала, готовая прахом осыпаться. Этого она точно не могла допустить и потому, одарив акторку неприязненным взглядом, сказала:
— Грель… ты иди, дорогой… а мы тут сами…
Спорить Грель не стал.
И правильно. С женщиной разговаривать женщина должна, а то мужчины вечно все не так понимают. Акторка проводила Греля долгим внимательным взглядом, в котором Лизаньке почудилась насмешка. А насмехаться над любимым почти-уже-супругом она никому не позволит.
— Ну и чего ты сюда приперлась? — поинтересовалась Лизанька, упирая руки в бока, аккурат, как матушка делала, когда торговке одной доказывала, что торговка эта неправая была в своей попытке всучить матушке гнилой бархат.
— Следишь? — прошипела Лизанька, наклоняясь к самому акторкиному лицу.
Подмывало в оное лицо вцепиться, выцарапать черные наглючие очи. Или хотя бы патлы ее смоляные повыдергивать…
…думает, что ежели королевич на нее заглядывается, то теперь все можно?
Королевич королевичем, но Лизанька от своего счастья не отступится.
— Семак хочешь? — дружелюбно предложила черноглазая стервь, и вправду вытаскивая из ридикюля горсть крупных тыквенных семечек. — Я вот страсть до чего семки люблю! С ними в голове такая ясность наступает, что просто диву даешься… бывало, возьмешь горсточку, сядешь на лавочке и лузгаешь… птички поют, цветочки цветут… благодать.
Она ссыпала семечки на подол Лизанькиного платья.
— И вот об чем бы ни думал, всенепременно поймешь, как оно правильно надобно.
Семечки черноглазая стервозина брала двумя пальчиками, при том оттопыривала мизинчик с розовым ноготочком.
— А ты и думать умеешь? — не удержалась Лизанька.
— Иногда.
Улыбалась она премерзко, ехидно, всем своим видом показывая, что Лизанькины надежды тщетны, и что любовь ее, между прочим, не просто любовь, а всей Лизанькиной жизни, это так, пустяк-с.
Навроде тех же семечек.
— Я не желаю тебе зла, — раздавив скорлупки пальцами, Тиана отправляла их в кусты, а сизоватые высушенные до хруста семечки бросала в рот.
Грызла.
И выглядела при том страшно собою довольной.
— Но твой кавалер мне не нравится.
— Главное, чтоб он мне нравился, — ответила Лизанька, внезапно успокаиваясь.
Да и, положа руку на сердце, что эта, чернявая, ей сделает?
Ничегошеньки.
Да, папеньке нажалуется… да, папенька опять станет Лизаньке пенять, что, дескать, ведет она себя непозволительно… но и только.
Князь настроен пресерьезно, не отступится…
…и будет Лизаньке идеальное предложение с букетом розанов, кольцом и страстным в любви признанием… а потом она снова позволит себя поцеловать.
Жениху ведь можно.
— Он может оказаться… не тем человеком, за которого себя выдает, — Тиана слизала с пальцев полупрозрачные былинки, которые остаются от тыквенной скорлупы, — представляете, как оно огорчительно будет?
— Представляю, — сквозь зубы ответила Лизанька.
Семечки она не возьмет.
Принципиально.
И еще потому, что девицы высокого роду, даже если только высокий род в перспективе ожидается, семечки не едят, если, конечно, оные девицы — не круглые дурочки, навроде Тианы Белопольской.
Где ее папенька откопал только?
— Вот у нас в Подкозельске…
— Прекратите! — Лизанька смахнула семечки на траву. — Я знаю, что нет никакого Подкозелька…
— Как нету? — притворно удивилась чернявая стервь. — Есть! Еще как есть! Хороший город! Основан в две тысячи пятисот семидесят втором году от сотворения мира… ежели мне не верите, то в справочнике гляньте.