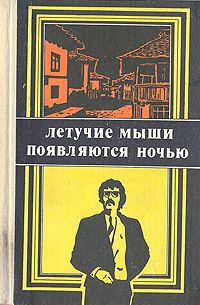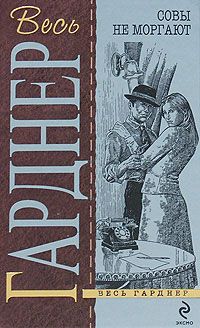Столпник и летучие мыши (СИ) - Скво Алина
Призыв был услышан. Он покатился, попал в секундную паузу, как шар в лузу, и тут же был подхвачен ярой многоголосицей:
— На бой! На бой! На бой! — грохнула дежурка сотней литавр.
— Молчать! — послышался отдалённый истеричный визг.
Дубинки разгулялись, смачно чмокаясь с решётками, костяшками пальцев, головами. Толпа отхлынула от прутьев, съёжилась, вдавила Семёна в основание хребта. Отдалённый хриплый тенорок заверещал треснувшим колокольцем:
— Выводи по одному! Руки за спину! Мордой в пол!
Эти слова были столпнику понятны…
…И часу не прошло, как воинствующий народ рассосался. Сокрушительная туча капля за каплей испарилась. Житель села Разумихино, точно выпотрошенный, тихо сидел в углу и наблюдал за тем, как «оформляют» бунтарей, тех, с кем он только что стоял плеч о плеч и готов был снести всё на пути. Парней вытаскивали с чётким интервалом времени и расстояния. Щёлкали наручники. Люди в мышастых погонах сворачивали людей с георгиевскими ленточками в рогалик при помощи того самого приёма, который селянин испытал на себе. Больно было ему смотреть, как независимость на глазах превращается в мягкотелую гусеницу и ползёт на карачках.
А служебные лица, которые ещё полчаса назад затравленно выглядывали из своего укрытия, теперь бесцеремонно волокли поверженных повстанцев, по-собачьи повиливая задами и наслаждаясь властью. Столпник увидел в этом что-то гадостное и воистину змеиное.
В «приёмном покое» стало настолько тихо, что говор оголённых дев, о наличии которых Семён даже не догадывался, беспрепятственно достиг его ушей. Одна миловидная девица, шумно почесав коготками надутую грудь, затянутую в дерматин, просительно протянула сквозь решётку руку и заговорила напевно:
— Милок, что ты его волочишь, как паршивого щенка? Ведь человек он всё же. Хороший такой мужчинка, а ты его…
Конвойный не отреагировал. Мужчинка, оторвав голову от плинтуса, попытался разглядеть, кто за него замолвил словечко. И тут же ему прилетел тычок.
— Ах, ты, мудило зелёное, ты зачем его пинаешь? Мужик вон какой крепкий и ладный, может послужить Отчизне. А ты его… — возмутилась вторая девица, которая по понятиям монастырского стоика была «в летах».
Перегруженный мозг Семёна распался на две части. Одна склонялась к тому, что эти девки добрые, жалостливые, за Русь страждущие, а другая… Отчего они так срамно обрядились? Нет у них, что ли, ни отцов, ни братьев?.. Никто их, как следует, не глядит, затулье* не учиняет? Ходют почём зря. А волосья-то распущены, точно днесь* под венец собрались. И-и-их…
Полумрак в клетках не давал затуманенному взору парня оценить ночных бабочек по достоинству. Хотя боль от синяков и ран притупилась, правый глаз по-прежнему оставался заплывшим, а из левого поневоле время от времени выкатывалась травматическая слеза, застилая всё вокруг. В придачу единственная лампочка под потолком в достаточной мере освещала лишь ту часть дежурки, по которой пролегало двустороннее движение. По одной стороне семенили скрюченные конвоируемые, по другой — с упавшими лицами и какими-то бумажками в руках — растерянно топали свободные граждане. Чудесное превращение одних в других происходило в кабинете Палыча, на уровне его стола, после пары подписей на протоколах.
Жердистая барышня — одна из пяти срамных дев — гнусаво прокудахтала, шагая из угла в угол:
— Отпустили соколиков. Небось, штрафы выписали такие, что одной зарплатой не отбить.
В тёмном углу, где, развалясь, сидела парочка срамниц, из набитого леденцами рта послышалось досадливое шамканье:
— Ну, и фиг с ними. Неча бузить. На кой им было выходить на площадя, да ещё и с георгиевскими ленточками? Если бы к нам пришли, были бы их карманы целы. У нас-то цены божеские.
— Как на кой?! Сегодня же десятое апреля — Международный день движения Сопротивления. Ты что, забыла? — раздался из того же закутка юный голосок.
— Вот именно. Десятого апреля у меня всегда был самый лучший улов. И правильно это. Мужичьё своё сопротивление жёнам и начальству в моих апартаментах изливали. А сейчас они что творят? Полное безобразие! Из-за них и мы тута торчим. Ни заработка, ни отдыха. Тьфу…
Семён услышал шёпот:
— Столпник… Сёма…
Он бросился на голос подруги, задрожал:
— Фру!
Все девицы, как по команде, уставились было на него, но тут же о нём и забыли. Ничего интересного: какой-то грязный бомж с фиолетовой мордой.
— Ч-ч-ч… Послушай и запомни, — Фру говорила тихо, но твёрдо, стараясь ничем не выдать свою тревогу. — Сейчас тебя поведут. В кабинете будут задавать вопросы: кто ты, что ты. Молчи, пусть они думают, что ты глухонемой. Тогда тебя определят, как бездомного, в геронтологию. Место там хорошее: кормёжка, уход, медицинская помощь. Я приду за тобой, как только освобожусь.
Из сумрака сквозь ограждение двумя белыми медлительными лилиями выплыли тонкие кисти рук и легли ему на плечи. Он припал опухшими щеками к арматуре, ища взгляда. Показалась бейсболка. Под ней — два горящих уголька, лихорадочное мерцание. Он, как путник к ручью, протянул разбитые руки, взял в пригоршню бритую голову, приблизил к лицу и прижался лбом к козырьку. Закрыл глаза. Угли упали в душу, прожгли сердце. Ох… Вот и ещё одна рана — сладкая. Фру снова заговорила, столпник выпил её дыхание и понял, что от монашеского естества в нём не осталось ровным счётом ничего.
— Я вытащу тебя. Слышишь? Обязательно. Мы сделаем это. Только ты ничему не удивляйся. Всё, что будет с тобой происходить в моё отсутствие, принимай, как должное. Ну, как говорят у вас на Руси, с Богом.
В опустевшем коридоре послышался стук дверей и расслабленный говорок:
— После-едний, что ли?
— Та-ак то-очно.
— Давай его сюда. Кажись, отработали. Ф-у-у-ух… Ну, и денё-ок!
Старорусские слова:
*жоль — нарыв, опухоль
*братние рамена — братские плечи
*затулье — защита
***
В накуренном коробке кабинета места для зашмыганного стола и двух расшатанных стульев хватало тютелька в тютельку. На одном из них спиной к зарешеченному оконцу сидело правоохранительное лицо в чине капитана и заслоняло широченной спиной белый свет. На второй умостился конвоируемый. Прапорщику, сопровождающему задержанного, сидячее место не было предусмотрено, и он стоял, подперев облупленную стену, точно бревно аварийную кладку сарая. «Бревно» конвульсивно, до слёз зевнуло, хрустнуло челюстями, поднесло руку к затуманенным глазам, вгляделось в циферблат. Все нормальные люди отобедали уж давно. А тут… Э-эх-х… Говорила мама: «Учись, сынок…»
Капитан, размякший от предвкушения отдыха, сидел в расстёгнутом кителе, устало развалясь на стуле.
— Фамилия, имя, отчество, дата рождения, место проживания. — отчекрыжил он на автомате, насупился и зашуршал полицейскими «трактатами», пробегая глазами рукописный текст.
Вдруг его взгляд остановился, как вкопанный. Голубые глаза выкатились и застыли двумя леденцами, светлые ресницы затрепыхались ночными мотыльками. Рука невольно потянулась к фуражке, что лежала кверху дном, испаряя праведный пот.
— Та-а-ак… — тихо вымолвил офицер и напрягся, точно ягуар перед прыжком. Он тщательно умостил на русой голове фуражку, выровнял козырёк, застегнул китель с медалью «За смелость во имя спасения», прищурился и навис глыбой над столом.
— Что же вы, гражданин… Как вас по имени отчеству?.. не подчиняетесь правоохранительным органам? На то она и полиция, чтобы следить за порядком, за исполнением законов и указов во всех сферах гражданской жизнедеятельности, привлекать нарушителей, оберегать мирных горожан от… от… и не только! — тут медвежья лапа служителя закона указала почему-то на потолок.
Семён упёрся больными глазами в стол и сделал вид, что ничего не услышал. Он действительно не слышал, что ему говорил монотонным баском большой человек в форме. Содержание сказанного до него не доходило. Знакомы были лишь отдельные слова, чуждая речь звучала, как рокот прибоя, убаюкивающе.