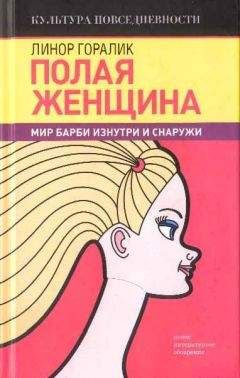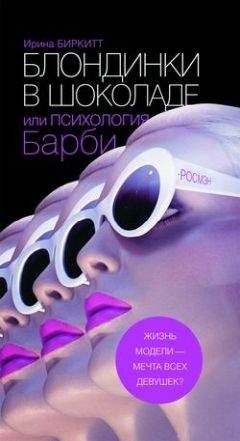Барби. Часть 1 (СИ) - Соловьев Константин Анатольевич
Барбароссе показалось, что душа, встрепенувшись внутри грудной клетки, заскоблила жесткими крыльями о ребра.
— Это она. Это Панди. Дальше!
Гомункул нахмурился.
— Она была ловкой. Отчаянно ловкой, лучше всех прочих, что заносило в дом старикашки. Еще на пороге насторожилась, точно куница, внимательно изучила каждый дюйм прихожей, а двигалась совершенно бесшумно. Помню, она сразу понравилась мне. Старик, сказал я себе, если тебе удастся убраться из этого дома, то только с ее помощью…
— Дальше!
— Дальше, дальше… — скривился гомункул, ожесточенно потерев лапкой вздувшуюся щеку, — Будь у твоего отца хер подальше на палец, может, ты не походила бы лицом на соседского свинопаса… Дьявол! Отложи эту херову штуку! Я же рассказываю! Черт, то-то же… Она заметила ловушку. Умная девочка. Обнаружила пару затаенных адских глифов за паутиной притолоки, живо связала что-то в уме, осмотрелась… Увы и ах, эта похвальная предусмотрительность не стяжала ей заслуженной награды. Поразмыслив, она, видно, пришла к тому же выводу, что некоторые проницательные чертовки, к которым ты не относишься. Что все эти символы — не ловушка, а банальная обманка, бессмысленное нагромождение адских знаков, не имеющих силы. Тогда она сунулась дальше и…
— Цинтанаккар сработал, — сухо произнесла Барбаросса.
— Да, — подтвердил гомункул, — Как медвежий капкан. Оглушил, заставив на миг лишиться самоконтроля, после чего проскочил внутрь через щелочку в ее броне. Она выругалась сквозь зубы. Должно быть, что-то почувствовала. Я же говорю, она была очень, очень сообразительна. Понимая, что дело плохо, она схватила меня в охапку и бросилась к выходу.
— Дальше!
Гомункул оскалил свою крошечную беззубую пасть.
— А дальше ничего и не было, — буркнул он, — Потому что следующее, что я помню — свой извечный проклятый кофейный столик в углу гостиной, к которому я привязан последние три года. На дворе стояло девятое октября, а это значило, что с момента того похищения миновал день. Вот только если прочие дни подобно перу в книге оставляют после себя чернильные следы, этот не оставил ничего — будто его и не было.
— Ты… потерял память?
Гомункул неохотно кивнул.
— С нашим собратом такое случается, особенно с теми, кто стар и немощен. Память отказывает нам, как и людям. Возможно, я чересчур переволновался, впервые в жизни ощутив, что близок к спасению, а может, это сработали какие-то тайные, неизвестные мне чары, но… Единственное, что я знаю про ту ведьму, что тебя интересует — мы покинули дом старика сообща, вместе с ней. Точнее, я покинул, находясь под мышкой у нее. Но я не имею ни малейшего представления о событиях того дня. Не знаю, как долго мы с ней были компаньонами, не знаю, через что прошли, не знаю, где побывали.
— Значит, она могла…
Барбаросса не решилась произнести следующее слово, точно оно было крупинкой, которая, будучи уроненной наземь, на начертанную формулу, пробудит цепь опасных непредсказуемых чар. Но гомункул, кажется, подобных колебаний не испытывал. Если он что и испытывал, то только колебания питательной жидкости в своей банке.
— Выжить? — он вяло усмехнулся, — Нет, не думаю. Ты и сама сообразила бы, если бы Ад наделил тебя хоть толикой ума вместо того чтобы вкладывать все в кулаки. Не кипятись, ведьма! Ты и сама знаешь, что я прав. Если я вернулся на свой кофейный столик, это значит только одно — она тоже вернулась.
Нет, подумала Барбаросса, Панди никогда бы не вернулась. Как бы ни пытал ее Цинтанаккар, демонический ублюдок в услужении старика, она извернулась бы, она нашла бы, она…
— Панди могла бросить тебя в городе, — произнесла она сдавленно, — Как следовало бы сделать и мне.
Вполне допустимая версия, подумала она. Панди не любила тащить за собой никчемный балласт, ей хватало одного только мешка для добычи и кинжала в ножнах. Все громоздкое, замедляющее бег, стесняющее, она безжалостно бросала. Как бросила когда-то и сестрицу Барби, ученицу, обладавшую изрядной преданностью, но, к сожалению, совершенно бестолковую и никчемную, привыкшую рассчитывать только на свои кулаки.
Гомункул покачал головой. Выглядело это нелепо, у него не было ни шеи, ни развитых шейных позвонков.
— Тогда как бы я вернулся домой? Или ты думаешь, что я могу вылезти наружу и дотащить банку до милого моему сердцу домика на Репейниковой улице?
— В Броккенбурге много душ, — возразила Барбаросса без особой уверенности, — Тебя могли найти другие и вернуть старику. Может, на твоей банке есть какая-то надпись, знак, адрес…
Нету, вспомнила она секундой позже. Я сама осматривала банку в трактире, тщась обнаружить что-то вроде того, но нашла лишь небрежно выцарапанную на боку надпись «Лжец». И ничего кроме нее.
Не доверяя своей памяти, она покрутила банку с гомункулом, не обращая внимания на ворчание бултыхающегося внутри ублюдка. Так, словно на потертом стекле в самом деле могло отыскаться что-то, что она не заметила прежде. Но, конечно, ничего не отыскалось.
«Нельзя держать чистыми две вещи сразу — совесть и жопу, — она отчего-то вспомнила надпись из будки телевокса, и другую, соседнюю, — Я — твой персональный Ад».
Она закупорила склянку с уксусом, которую держала в руке и сунула ее за пояс. Потом, повозившись, закрутила обратно крышку на сосуде с гомункулом.
— Пожалуй, я услышала все, что хотела услышать. Можешь считать наш договор возобновленным. Но если ты хоть один раз осмелишься мне перечить или проверять на прочность мое терпение… — Барбаросса усмехнулась, обнажив зубы, — Поверь, ты никогда не вернешься на свой любимый кофейный столик, к доброму старому хозяину. Потому что я разобью твою склянку и собственноручно скормлю тебя фунгам, посыпав лавровым листом и перцем.
Улыбку гомункула можно было бы назвать натянутой — во всех смыслах. Его кожа и так выглядела натянутой на большую тряпичную куклу, а глаза — огранёнными кусочками грязного льда, инкрустированного в глазницы.
— Если ты поможешь мне улизнуть, считай, что я твой преданный паж, советник, секретарь и клеврет.
Барбаросса удовлетворенно кивнула.
— Хорошо. У тебя есть имя?
Гомункул заколебался, неуверенно шевельнув ручками-плавниками.
— Старик фон Лееб не считал нужным наделять именами предметы обихода в своей норе. В его представлении я был не разумнее, чем злосчастный кофейный столик, на котором обитал. Прочие… Предыдущие хозяева подчас давали мне имена, но мне не хотелось бы вспоминать их. Некоторые из них были весьма изобретательны и остроумны, но они доставят удовольствие только тебе, не мне.
Барбаросса раздумывала недолго.
— Тогда я буду звать тебя Лжец. Может, не самое звучное имя в этом городе, но тебе идет. Когда выберемся из этой истории и ты сделаешься маркизом или графом, можешь сменить его на более благозвучное. Сделаешься, быть может, даже Бонифацем фон Буше[5]! Но на ближайшие шесть часов или сколько там осталось ты будешь Лжецом.
Лжец ухмыльнулся и осторожно потер сухие лапки.
— Принимаю с почтением, — сообщил он, — Отрадно видеть, что шестерни в твоей голове наконец заскрипели в нужном направлении.
— Тогда полезай в мешок, — буркнула Барбаросса, — Потому что мы выдвигаемся прямо сейчас.
Она привычно сунула банку в мешок и взгромоздила его на спину, на прежнее место. Черт, если ей придется носить его на себе следующие несколько часов, у нее на плече, пожалуй, образуется чертовски большая мозоль…
И плевать. Короткая передышка прибавила ей сил, заодно избавив и от последствий недавней взбучки. Ноги, будто и не избитые за все время ее отчаянных метаний, подчинились, будто умные объезженные лошадки, посвежевшая кровь загудела в венах, обновляя мышцы, готовя их к новой работе. И даже колючая картечина, засевшая внутри, над печенкой, как будто бы на какое-то время перестала ощущаться. Не растворилась, нет, Барбаросса все еще отчетливо чуяла ее тяжесть, но немного съежилась…
— Куда мы направляемся? — деловито осведомился из мешка Лжец.